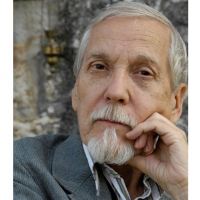
Николай КОКУХИН. «КАК ЖЕ Я ТОМЛЮСЬ ПО РОССИИ…». «Переписка двух Иванов» – Ивана Шмелёва и Ивана Ильина
Николай КОКУХИН
«КАК ЖЕ Я ТОМЛЮСЬ ПО РОССИИ…»
«Переписка двух Иванов» – Ивана Шмелёва и Ивана Ильина
Издательство «Русская книга» (ныне уже не существующее) в свое время вручило русскому читателю совершенно роскошный подарок: три тома «Переписки двух Иванов» (в рамках собрания сочинений И.А. Ильина). Я прочитал их буквально на одном дыхании.
Речь идет о двух выдающихся русских людях: о философе, мыслителе и публицисте Иване Александровиче Ильине и прекрасном писателе Иване Сергеевиче Шмелеве. Так сложилась судьба, что оба они оказались на чужбине, в изгнании – там прошла значительная часть их жизни: первый жил cначала в Германии, а потом в Швейцарии, второй – во Франции. Их переписка началась в 1927 году и закончилась в 1950 (в июне этого года скончался Иван Шмелев). За это время они написали друг другу сотни писем.
«Переписка двух Иванов», без сомнения, явление в русской литературе. Ничего подобного ещё не получал в свои руки отечественный читатель. О жизни эмигрантов написано не так уж и мало – и художественных, и документальных произведений. Но всё равно о их жизни мы до сих пор знали маловато, особенно о жизни писателей. И вот этот пробел восполнен.
Три тома «Переписки», на мой взгляд, – лучшее эпистолярное наследие, которое оставили нам Иван Шмелев и Иван Ильин. В чем тут секрет?
Дело в том, что они писали друг другу письма, личные доверительные письма и, значит, были полностью раскрепощены. В них не сидел цензор, который губит всё на корню, он не контролировал их мысли, мнения о людях и событиях, оценку того, что происходило как в порабощенном большевиками отечестве, так и на протухшем западе, их сокровенные переживания и скорби, отзывы друг о друге. Письма не предназначались для печати, во всяком случае при жизни их авторов, и им некого было стесняться.
Какую бы вещь ни создавал художник – рассказ, повесть, роман – и о чем бы ни рассказывал, он пишет в конце концов самого себя. И чем правдивее говорит, чем сильнее не щадит себя, чем сильнее обнажается, тем глубже, вернее, пронзительнее вещь. А письмо – это такой жанр, где обнажаться легче и проще всего. И оба Ивана делают это просто, откровенно, ничего не скрывая ни от себя, ни от собеседника. Уровень обнажения получился предельный, ни в каком художественном произведении мировой литературы мы ничего подобного не найдем. Иван Шмелев и Иван Ильин пишут о себе только правду, и эта правда сильнее всякого вымысла; она потрясает.
«СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК – ПИСЬМО ОТ ВАС…»
Переписка двух изгнанников – больше, чем переписка, больше, чем общение двух близких по духу людей. Их письма – это плот, который держит их на плаву; мост, который их соединяет; резервуар с кислородом, который помогает им не задохнуться на чужбине.
«Сколько видел я от Вас радостного, ласкового, чудесного! Единственный свет мне в Европе: родной свет. Если бы не дружба Ваша – я был бы несчастней, о, куда же несчастней! – без просвета». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 20.02.1935.)
«Напишите скорее! Мне всякое письмо Ваше – радость! Все письма Ваши берегу; потом выйдут отдельным томом: письма И.С. Шмелева к Ильину. Вот я и увековечен… Карьеру сделаю с того света». (И.А. Ильин – И.С. Шмелеву. 3.08.1932.)
«Ваше письмо – всегда для меня праздник, редкий праздник! Будто «живой воды» вспрыснет. И целый день ходишь праздничный: в детстве так, когда знаешь, что вечером повезут в театр. Съездил в театр, и опять – дома, скушно, серо, все обыденное…». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 14.03.1935.)
«Меня поражает, что мы с Вами в одни и те же годы, но в разлуке и долгой разлуке шли по тем же самым путям поющего сердца». (И.А. Ильин – И.С. Шмелеву. 15.03.1946.)
«Благодарю Вас за то, что дарите меня доверием, любовью, дружбой. Без Вас, милый Иван Александрович, многого не познал бы я, и жизнь здесь была бы для меня беспросветной, не согретой… Сколько взрыто через общение с Вами!». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 11.05.1935.)
«Сегодня праздник – письмо от Вас. Как всегда, читается и высасывается каждая строка, «дегустируется» всякий и оборотик. Читается в строках, над строками, за строками и все многоточия и насыщенные паузы». (И.А. Ильин – И.С Шмелеву. 17.03.1933.)
«Дорогой Иван Александрович, Ваше письмо столько – при предельной сжатости огромного содержания – подняло во мне, что вечеров – и многих надо бы для выяснения и прояснения! Вообще, Ваши письма – «самоцветы», такая игра в них – всего!». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 28.09.1945.)
«Пока мы с Вами живы – мы два Ивана, российских сына; и никаких гвоздей». (И.А. Ильин – И.С. Шмелеву. 10.04.1938.)
«Я ВЕСЬ В ИСТОМНОЙ ТОСКЕ…»
Каждый день для Ивана Ильина и для Ивана Шмелева был днем не жизни, а выживания! Никто их там, на чужбине, не ждал с распростертыми объятьями, не приготовил ни жилья, ни одежды, ни обуви, не нашел хорошего добросовестного, честного издателя, который бы ждал их литературные труды, переводил на европейские языки и печатал бы большими тиражами, а потом платил приличные гонорары. Нет, ничего такого не было и быть не могло. Каждый шаг давался с трудом, каждая копейка добывалась с кровью. Их жизнь была жизнью мучеников.
«Переписка» доносит до нас редчайшие штрихи этого бытия. Почти каждое письмо – вопль об отчаянных, исключительных, трагических обстоятельствах, почти каждая строка – крик о помощи. Иван Шмелев и Иван Ильин жили каждый день и каждый час как последний день и последний час.
«Я очень устал и не помышляю сейчас писать. Вам пишу – через силу. Отдал продать часы свои золотые, с цепью, память матери. Зачем мне часы? Некому оставлять. Если бы они, рижане, знали, в каком положении я! И без сил, и без денег. Ну, как-нибудь доберусь куда-то… до С-т Женевьев. Место оплачено уже, в одной могилке с Олей. Так и Ивику наказал». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 17.09.1937.)
«Господь с Вами, милые! Весь в истомной тоске». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 16.05.1947.)
«Ка-ак же я устал! Но – отхожу, только на душе смутно, вяло, сонно. О будущем отучился думать». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 5.08.1935.)
«Я часто болею, устал я… милый Иван Александрович, уста-ал. Я совсем одинок. Я чуть мерцаю – вернее – копчу». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 24.03.1940.)
«Мне очень трудно в материальном отношении. Туземная жизнь выпирает меня как пробку – и в то же время все время предлагает бесплатно выступать и писать. Каждую марку считаешь!». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 30.01.1933.)
«Я не живу – изживаюсь». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 29.07.1947.)
«Я не писал от полного бессилия: был на краю. Только теперь узнал: «если бы не приняли мер… дней 7-10, Иван Сергеевич не встал бы: он, незаметно для себя, слабел от истощения и так, не сознавая, и сошел бы на нет». Так заявила докторша M-lle Florin, очень знающая. Меня спасла Мария Тарасовна Волошина, жена одного ученого, – они живут у того же M-r Risch. Она, без ведома моего, вызвала докторшу, и та назначила уколы – двойные, – против язвы (отсутствия охоты есть в продолжение 2 месяцев!) и – питательные, – «pernalmon» – голландское средство! – 2 сантилитра содержат субстанцию 1 кг телячьей печенки. (Докторша сказала, что, по счастью, организм отлично принял лечение.) Теперь я выправляюсь, и уже написал 4-ю главу «Записок неписателя». Я лежал 2 месяца пластом, не мог ходить, полное головокружение, истощение. («Так подействовала на писателя травля, устроенная вокруг его имени в Америке». – Примечание составителя.) И неохота есть, и берег свои нищенские франки. Так что мой «бунт» – последнее содрогание, потеря себя, последнее отчаяние. Жить уже не было сил, но огненные мысли плясали в бессонницу, доканывали меня. Как я ослаб!.. Едва держу перо. Но теперь охота есть вернулась. И – писать. Сердце едва прослушивалось. Кожа присыхала к костям. Теперь я пополняюсь. Надо закончить работу. И в таком истощении я как-то еще мог прокорректировать свыше 2 тысяч страниц гранок! На днях выходит «Богомолье» (2-ое издание) и 2-ая ч. «Путей», а за ней 2-ое издание 1-ой. Послал и Борзову кое-что… И – ничего не помню, как я жил, был в эти 2 ½ месяца. К теплым дням возвращаюсь в Paris, – нет сил для здешней жизни, – в сохраненную квартиру. Все парижские гонорары по изданиям ела квартира. Безумие». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 17.12.1948.)
«Ведь я сколь одинок! Знаю – и Вы – одиноки…». (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 29.07.1947.)
Восемнадцатого июля 1935 года Иван Сергеевич написал своему корреспонденту очередное письмо. В нем он, помимо всего прочего, сообщал и о своих литературных делах – ведь он, так же как и его друг, профессиональный писатель, это его жизнь, его дыхание. Письмо довольно большое, впрочем, как и почти все другие послания Шмелева, я привожу его с небольшими сокращениями.
«Нота-бене: Пишу сие в тисках душевных, и все – черным-черно, но не могу не писать, ибо «надо же человеку хоть…» – размыкаться, – в скобках – постараться и друга наградить «переживаниями». Но… не прокляните меня на «всех соборах»!..
Сперва – гадости, а дальше – все «радости». Можно сказать – уестествлен. Ни-куда не поедем. В Югославию – оборвалось, может быть, что и к лучшему: три к носу, все пройдет. Тру. И вообще – «тру», по-французски, тру-ба, по-русски. Урезана русская акция – !! – пррямо из… русалима. Не могут окупить дорогу мне и Ольге Александровне. Пропустил все сроки, и дачка наша в Алемоне – уплыла… к Деникиным, неумолимо. Единственная дешевая и удобная… Ну, облизнулся и пощелкал зубами. А в другое место не поеду. Буду издыхать в вони и грохоте на республиканском бульваре. Осерчала кума на рынок.
Второе: Вы меня забыли. Я послал Вам бо-ольшое письмо, с гимном моей Дариньке (боюсь – не ндравится Вам она), но теперь я возненавидел «Пути Небесные», взявшие столько силы, стал на полпути и… бросил бы, если бы не «деньжи давай»! Ску-у-чно. И я заслаб. Всегда – после «горения».
Третье: добился до того, что остался без оных даже, и должен буду уехать в гетто, чтобы за 20 фр. купить оные… из-под кого? – не знаю, но хоть бы из-под Ландрю… – из серой чертовой кожи, выстирали и выгладили, – и щеголяю. А на башке на-лог в 622 фр. Куда же тут поедешь?! И вот, в таких оных встретил я 14-го, а по ст. ст. – 1-го июля мое 40-летие литературной каторги и нищеты. И почтен! Даже всегда добрый Н.К. Кульман не приехал и ни строки не прислал. А знал. Должно быть, за мой язык и смелость в мыслях. Дернуло меня сказать, что нехорошо академической группе не отозваться на юбилей национальной газеты… Вот меня и юбилейнули. А в «Возрождении» получаю гроши. С ужасом узнаю, что Ходасевич за свои копанья в советской «литературной» помойке и «подвалы» получает до 1800 фр. в мес., что Лукашу платят больше, чем Шмелеву, да-да!! – а я едва выгребаю 400 фр. в месяц, на круг. Мне за подвал – в 300 с большим лишком строк – 150 фр., а за два, за почти 600 стр. – 250 фр. – такой работы!! Что это?! И как мне требовать, когда скажут – не могим… а не хотите, так – «воздуху хватите»! Чуть не обанкротился с квартирой, насилу сумел заплатить «терм» (если бы не «чудо»!). Куда же тут уе-дешь?! И какие чувства будут обжигать душу?! Для «Путей Небесных» ожог нужен. А всё дырья и ущемления. И вот – пью 40-летие, нищий, гонимый…
И в довершение – гадость нежданная, но другого характера – о писательской гнусности. Когда-то Мережковский с Буниным устроили – я уже был в Париже – «акцию» для писателей от французов, в сумме 6 т. в год на брата. Взяли Куприна с Бальмонтом и Гиппиус, а меня отстранили, должно быть, за «строптивость», я тогда только что отодрал Гиппиус за «критику». И вот, узнаю, что Бунин, проглотив Кобеля (игра слов. Имеется в виду – премия Нобеля. – Примечание составителя), не отказался от «акции»… – и – глотает, требуя даже от Мережковского телеграммой: высылайте скорей очередное, сижу без копейки! Тьфу! Ему на юбилеи и не-юбилеи сбирали по 60 тыс. фр. И не раз. И вот… особенно горько видеть такое… ведь, ей-ей, скоро будем подыхать. Правда, я не свой для «неарийцев», а они главным образом дают.
Так вот, что же мне было делать, когда получил из Швейцарии от Кандрейи письмо, что Губер берет её перевод и дает аванс? и шлет договор? Ну, добивайте меня, – я согласился безоглядно… (Дело в том, что Кандрейя была очень слабенькой переводчицей, она не чувствовала тонкостей русского языка, и от Шмелева с его богатыми оттенками и нюансами мало чего оставалось. – Н.К.). Мне дали аванс в тыщу швейцарских франков… – и я принял, не раздумывая. Ибо наг и бос, и термиты гложут, и… оставалось немного, чтобы плакали Худосеичи и Гадамовичи на тризне. И теперь у меня чистых осталось ровным счетом 144 фр. на покрытие термитных ущемлений, и я должен писать «Пути Небесные», дабы не погибнуть от голода… – где ты, тыща швейцарских франков?! Но зато по 15 октября меня не погонят с квартиры. Вот каково мое 40-летие…».
ГОНЕНИЯ
Письмо Ивана Александровича Ильина от 13 октября 1938 года – одно из центральных в переписке. В нем идет речь о политическом гонении, которому он подвергся в Германии за то, что «дерзнул быть русским патриотом с собственным суждением». В течение многих лет – постоянное нервное напряжение, постоянная тревога за свою судьбу и судьбу Натальи Николаевны, своей жены, постоянная боязнь провокаций и ареста – редко кто мог выжить в этих исключительных условиях.
Уже в 1933 году Ильина навестила политическая полиция. Она предложила ему сотрудничать с ней, собирая разоблачительные сведения о русской эмиграции. Писатель решительно отверг это гнусное предложение. Вскоре на квартире у Ильина был произведен обыск. Его арестовали и препроводили в полицейский участок. Под угрозой концлагеря ему запретили заниматься «политической деятельностью».
Назойливый, методичный, наглый прессинг тайной полиции усиливался не только с каждым годом, но и с каждым месяцем. В 1934 году Ильину как профессору Русского Научного Института было предложено заняться пропагандой антисемитизма во всем эмиграционном рассеянии. Он, конечно же, отказался, и его тут же уволили с работы.
Между тем в политической полиции на Ильина скопилось множество доносов. От кого? От сторонников «русского национал-социалистического движения». Ивана Александровича вызвали в «гештапо» на допрос. Вопросов было много, и среди них, между прочим, такие:
– Служили ли вы в Москве большевикам?
– Нет.
– Почему большевики не расстреляли вас сразу, а выслали только через пять лет?
– Бог не допустил.
– Вы масон?
– Нет.
Через некоторое время Ильину запретили читать лекции как по-русски, так и по-немецки. Протесты не помогли. Доносы по-прежнему накапливались и накапливались. В апреле 1938 года Иван Александрович был приглашен к заместителю Розенберга. В ходе беседы Ильин сказал, что Украина не в его власти и что на её оккупацию и отчленение он никогда не согласится (по-видимому, нацисты предполагали использовать известного русского философа в своих целях во время похода на Россию).
Ситуация вокруг Ильина накалилась настолько, что стало ясно: нужно как можно быстрее покидать Германию. Но как? Ведь Главное полицейское управление наложило на его выезд запрет. В конце концов все разрешилось самым наилучшим образом: не без Промысла Божия Ильин и его жена получили визы и отбыли в Швейцарию.
«Меня вынесло из Германии как на крыльях ангелов: нигде ни зацепки, – писал Иван Александрович. – Всё спасено: до писем Врангеля, Шмелева, до записей и альбомов включительно».
Ну, а как приняла Ильина Швейцария? С распростертыми объятиями? Отнюдь нет. Холодом и бюрократической волокитой. Но и тут Господь пришел на помощь Своему верному рабу – в лице композитора Сергея Васильевича Рахманинова, которого знала не только Европа, но и весь мир. Последний заплатил швейцарским властям денежный залог (кауцию) в размере четырех тысяч швейцарских франков и тем самым спас жизнь Ильина.
«ДУШЕ ИСКАЛ ПОКОЙНОЙ ЗАВОДИНКИ…»
Нет, наверно, большего недуга для человека, чем ностальгия. По себе знаю: пробудешь за границей неделю – страшно хочется домой! А если две недели, то это уже почти невыносимо! А каково было Ильину и Шмелеву, которые были обречены жить на чужбине до самой смерти! Жить вне Родины, среди чужого народа, среди чужой речи, каждый день видеть лица нерусские, привычки ненаши, пейзаж неродной, дома непривычной архитектуры – кто может это вынести?! Можно, наверно, привыкнуть, но лишь чуть-чуть. Русское сердце всегда останется русским и будет тяготеть к Отчизне до конца дней.
Особенно тяжело на чужбине художникам. Ведь Родина – их питательная почва, которой они лишены. Телом они за границей, а душою – в родном Отечестве – и мыслями, и чувствами, и памятью, и воображением. Для них писать о Родине – значит лечиться. «Это же мое лекарство», – вырывается у Шмелева. Сколько лет он писал свою «Няню»! – она держала его «на плаву», он был в стихии родной русской речи.
«Само написалось. Мне лишь хотелось пожить в языке, понасладиться уже неслышимой родной речью. Я писал – и вслушивался, и порой услаждался, смеялся…».
Только одно слово «Россия», его звук давали изгнанникам силы прожить еще один день, написать страницу-другую художественной повести или публицистической статьи, размышлений о судьбе изгнанника или воспоминаний о прожитых годах; помогали не падать духом, верить в свое предназначение, надеяться на то, что каждое их слово рано или поздно дойдет до русских читателей и поможет им осмыслить свое бытие.
Вот еще одно признание Ивана Шмелева.
«Что же мне давало и дает силы?! Она, Природа, Русской природы отраженье... воздух, наш воздух... от горьких осинок, от березок... да, да, от «русских березок», над которыми так изощряются критики-болтуны, душевный сухостой, проклять эта, еще неизжитая даже вне родины! Да, вот эти «березки»... – ах, хотел бы я написать-оттрепать, кого следует, за эти прихихикиванья – «бе...резки»! Эта сволочь с панелей питерских, не отличающая гречихи от капусты, березы от осины, эта сволочь, всегда жившая чужим, всячески чужим, эта сволочь, нестоящая даже пыли самого последнего дождевичка, эта плесень, водящаяся в литературе... Да, черт с ней, отсохнет... Здесь воздух – впервые почувствовал во Франции, – наш, только чуть не хватает... брусники не найду! Вчера пошли с 0<льгой> А<лександровной> – калеки – пройтись к вечеру, по горизонталям. Вижу – откосы от дороги, мелкая поросль березки и осинника... Стой! Па-хнет, как там, когда-то в начале августа! Э, да тут должны быть, не могут не быть подберезнички, подосиновички! И я полез, зная, что они тут, наши, они оказались – тут! Те же, с серыми крапинами на ножках, у березовых – на кривых чуть, у подосиновиков – на толстых, крепких! И лики – шляпки – те же, привычных образцов. И всё – то же! Я собрал с десяток, и мы несли их в руках, как дары... улыбку Родины. И пили горьковатое, августовское вино рощ осиновых... и я думал, что тут должны быть рябчики. Нынче идем опять – пить вино родное. Заряжаться».
Уже одно воспоминание о родных лесах и полях, ручейках и родниках, тропинке в сосновом бору и трелях соловья в зарослях черемухи окрыляло и укрепляло изгнанников.
«К<а>к хочется воздуха, лугов... посидеть бы на русской речке, под ветлами, под ольховыми кустами... окуни где берут со дна... и теплынь, и с лугов сеном и – ты еще молод, полон сил и надежд, свеж, как трава в росе... а сейчас пойдешь светлыми лугами, к бору на горке, а там дача под соснами, и у тебя ещё полная семья, и родные глаза встречают, и самовар ещё дымит шишечками, и вот, горячий стакан густого, утреннего, укрепляющего чаю, со сливками – чего захотел! – и берешь «рыбьей» рукой ватрушку, и уже сует почтарь деревенский обандероленные шершавой бандеролькой «Русские Ведомости»... или «Рус<скую> Мысль»... и там твой первый рассказ... и тебе только еще 30 лет и еще важным считаешь, что на собрании Волоколамского Земства гласный П. громогласно сказал, что «так дольше не может продолжаться», – и ты согласен, препровождая застрявшую ватрушку в глотку полным глотком душистого, утреннего чайку... и смотришь радостно-молодо, как молодой и тоже радостный кардинальчик-дятлик долбит сухой сук на сосне, в такой же, как ты теперь... «О, моя молодость, о, моя свежесть!» – о, моя ни на что неразменная, невозвратная... невинность! Теперь все знаешь, вплоть до... беспричалья». (И.Шмелев. 15.06.1935.)
Мы читаем ту или иную вещь писателя, наслаждаемся ею, отмечаем блистательные находки, восхищаемся игрой слов, удачно выбранным тоном, искрометным юмором – и не подозреваем о том, что она, эта вещь, создавалась трудно, рывками, с большим напряжением сил, с величайшей мукой.
«Я… был в страдании, когда писал… «Богомолье» – я искал – уйти от своего ужаса и умиранья духовного. И – спасся, может быть?!».
Загадка человеческой жизни. Загадка художника. Чаще всего именно в такие мучительно-невыносимые периоды создается все самое лучшее.
«Да ведь я же для себя писал! Да, душе искал покойной заводинки… и плакал, и рождался вновь. И благодарю Создавшего меня, давшего мне сердце, душу, чувства… и такой язык… вселенский, наш язык – благодарю, благодарю за то, что дал мне силы помнить и воссоздать погибшее! Я счастлив: я же «Богомолье» написал, – поклон РОДНОМУ! Лучшего не напишу: нельзя». (И.Шмелев. 13.03.1933.)
И он прав. Это его лебединая песня.
И еще один важный момент: в изгнании Иван Ильин и Иван Шмелев написали то, что дома, в России, никогда бы не написали.
«Господи! Ведь мы, иные, мы духовное тело Родины ищем, ищем, вспомнить хотим, воскресить «в уме»! Раскрыть Ее выстегнутые глаза, отмыть Лик опоганенный... – Икону нашу! Да где бы я мог написать «Богомолье»?! Только тут – мог. И «Лето Г<осподне>». И – все мое. Мы ищем, воссоздаем подлинную, «пропущенную», прогляденную нами Россию! И зачем – «Литер<атура> в изгнании»? Как посмел?! Мы ушли добровольно, мы выбирали». (И.Шмелев. 10.05.1933)
Ностальгия – душевная болезнь, и потому она в сто раз мучительнее болезни физической.
«Тоска гнетет, тоска по родному – и боль. Не милы мне никакие «фарфоры» заграницы. В Севре вот живу, на глине. Грязно, холодно, неуютно. У печурки сижу – дремлю. И дремлет в душе. Ах, не будите меня, газеты, Европы, мир сверкающий! Ах, шел бы я от всенощной, по снежку... скрып-скрып... Ах, милый фонарь, деревянный, масляный... О, ты милей мне всех, всех огней, всех Парижей и Берлинов, всех цветных и крутящихся огней Эйфеля! Скрып-скрып... Извозчик, Крымские бани... Гривенник! Бани (тридцатку я любил!), полутьма, жар-пар. Полок, глухой гул шаек, жаркий плеск воды, шум вылетающего пара, будто залп, – дрогнет в окошках, лампы мигнут, и чудесное обжигающее облако подбирается и уносит тебя... ффу-у!.. Всю Европу отдам за тихую всенощную в снежку, за баньку, за родной лай собаки в тупике!.. Не пишу..! Устала Сивка на чужих дорогах. Ни остановок, ни ямщиков! Еn аvаnt! plus vite! (Гони! Поскорее!) Ку-да же?! Ни окошка родного, ни песни, ни... кулаком под морду (зато – и ласка!), а – еn аvаnt! Ку-да?! Не могу будучи и в шорах. Время приходит – молитвы нет. Все, все видится мне в ином освещении. Я забываю родное солнышко. Я тоскую по родной речи. Чужая дорога, да и та перекопана. Еn аvant?!. Ку-да?..». (И.Шмелев. 30.11.1930.)
«БОЛЬШЕВИЧКИ НЕ ДРЕМЛЮТ»
Иван Шмелев, так же как и его друг, писал то, что хотел, что выливалось из переполненного сердца, то, что его больше всего волновало; он был свободен, в нем не сидел внутренний цензор, который говорил: «вот это можно, а это нельзя»; он не зависел от государственных атеистических издательств: его песня – это песня птицы, которая не знала неволи.
Он был далеко от России, за тридевять земель, но и там не давал покоя большевикам, он был для них как соринка в глазу – как бы им хотелось, чтобы он работал на них, воспевал их «великие достижения» и «социалистический гуманизм». Многих, очень многих писателей, разумеется, беспринципных и продажных, они соблазнили высокими гонорарами, дачами, автомобилями и другими материальными благами. Подкатывались они и к Шмелеву. В письме к своему другу от одиннадцатого июля 1946 года он колоритно изобразил визит к нему советского «искусителя». Пришелец, предложив писателю переехать на постоянное жительство в Советский Союз, выложил свой главный «козырь»:
– Все издательства, Иван Сергеевич, будут для вас открыты.
Шмелев возразил:
– Неужели все?
– Да, могу вас уверить.
– Ну хорошо. А печатать все будете?
Незваный гость замялся.
После минутной неловкой паузы он продолжил:
– Иван Сергеевич, теперь особенно важно укреплять престиж России. И ваш приезд…
– Красная армия его уже достаточно укрепила, – перебил его Шмелев. – Предостаточно…
– Это так. Но для букета! Для букета это очень важно!
– Поверьте, я совсем не тот «цветочек». Я не подхожу для вашего букета – ни цветом, ни запахом.
– Вы подходите новизной…
– … которая давно поблекла и увяла.
Гость снова умолк.
– Тиражи, тиражи у нас стотысячные! Вот что важно! – с большой эмоциональностью воскликнул он. – Из-за них любой…
– Да нет, не любой, – спокойно возразил Шмелев. – Мое «Богомолье» вы и в одном экземпляре не издадите. Верно?
– Не знаю.
– А я знаю… Что мне там делать? Мух гонять?
– А, знаю: мух кормить.
– Ну уж вы…
– Я знаю, что говорю. Тут я хоть иностранцам про Россию излагаю, и сие мне отрадно… Пусть в России откроют храмы, выпустят из тюрем священников – вот тогда и будет престиж. Возродятся Крестные ходы, откроются ворота Оптиной, чего бояться-то?! Пойдут мое «Богомолье», «Лето Господне»… Вот когда они пойдут, тогда и я пойду. Никак не раньше.
Визитер открыл портфель и, достав книгу в привлекательном твердом переплете, подал ее Шмелеву.
– Это подарок.
– Интересно, что это такое. – Шмелев взял книгу. – «Русский сборник». Оч-чень интересно. Кто же тут у нас? Бунин. Замечательно! Еще кто? Ремизов. Великолепно! Тэффи. Пантелеев, то бишь Дмитрий Шаховской. Все есть, только Шмелева нет.
– Это дело поправимо.
– Каким образом?
– В скором времени мы выпускаем второй сборник. И там уж точно поместим вас. Более того, откроем сборник вами.
– Слишком большая честь.
– Рассказ или повесть – на ваше усмотрение.
– Отдельные главки не могу дать – «лоскутки» выйдут, а цельного ничего нет.
– Можно и статью.
– Как назло, и статьи нет.
– Жаль.
Визитер понял, что не обломилось.
– Не могли бы вы письменно изложить все, что изволили высказать? – помявшись, предложил он.
«Как бы не так! – подумал про себя Шмелев. – Буду я писать для чекистов!»
А вслух сказал:
– Прошений не подаю и о милости не ходатайствую.
Гость не унимался:
– Ну тогда лично для меня маленькое письмецо.
Шмелев сказал строго и раздельно:
– Я же толь-ко что вам лич-но все из-ло-жил.
Собеседник понял, что сделал перебор, и пошел на попятную:
– Будь по-вашему.
А потом добавил:
– Могу я прийти к вам еще раз?
– Для какой цели? – полюбопытствовал Шмелев.
– Поговорим о России.
«Смотри, какой хитрый. Если бы он сказал: «Чтобы продолжить знакомство» или «Мне интересно», я бы ему немедленно отказал, а тут…».
– Ну что ж, ради России приходите.
– А когда?
– Через недельку, если вас устроит.
– Договорились.
Ни через недельку, ни через другую он не явился. Видимо, Москва не порекомендовала.
В этом же письме Шмелев рассказывает еще об одном визите.
Однажды, когда он сидел за письменным столом и занимался своими писательскими делами, на пороге его убого жилища появилась молодая белокурая, приятной полноты красавица – алые влажные губы, большие карие глаза, легкое платье, открытые руки, безупречная фигура, на лице – приветливая улыбка.
– Могу я видеть мсье Шмелева?
Иван Сергеевич поднялся из-за стола.
– Это я.
– Очень приятно. Меня зовут Славица. А если полностью, то Славица Златка.
– Мне тоже очень приятно. Кто же вы?
– Я пианистка.
– Очень хорошо, но у меня нет рояля.
– Не стоит беспокоиться.
– И даже дешевенького пианино нет.
– Я пришла в гости не к музыкальному инструменту, а к человеку.
– Ну тогда другое дело. Чем могу быть полезен?
– Я большая почитательница вашего таланта.
– Вы меня читали?
– Да.
– А что именно?
– Все. От первой до последней книги.
– Первый раз встречаю такого преданного читателя.
– Я с вами не расстаюсь никогда, даже в дороге. – Гостья достала из сумочки одну из книг Шмелева, изданную на французском языке.
– А по-русски что-нибудь читали?
– По-русски больше всего.
– Это достойно похвалы.
Славица бегло оглядела комнату.
– В вашем жилище не хватает женской руки.
– Что верно, то верно.
– Я могу вам помочь: и приготовить, и постирать, и прибраться. Буду приходить два-три раза в неделю, и плата небольшая.
– Вы слишком элегантны, чтобы заниматься такой низменной работой.
– Поскольку я буду делать это для вас, то она не покажется мне низменной.
– У вас очень нежные руки: они привыкли к клавишам рояля, а не к швабре.
– Я могу извлекать звуки даже из швабры.
– И потом… время…
– У меня уйма свободного времени, и оно ничего не стоит. А вы художник, и каждая ваша минута – на вес золота. Вы должны творить, а не стоять у плиты. Котлеты, салаты и борщи – это женское дело.
– Благодарю вас, милая Славица, но мне доставляет большое удовольствие приготовить винегрет – в нем так много тонкостей.
Гостья встала со стула, прошлась по комнате, туда, обратно, свободно, играючи, как будто это была не убогая тесная комната, а широкая, залитая светом сцена. Шмелев залюбовался её легкой грациозной походкой.
Она остановилась перед письменным столом, заваленном рукописями.
– Судя по всему, у вас нет секретаря, – сказала она, окидывая их взглядом.
– Чего нет, того нет.
– Я могла бы набело перепечатывать ваши вещи, вычитывать гранки, вести деловую переписку, ходить на почту – представляете, какая для вас экономия времени!
– Да, это так, но я предпочитаю все делать сам – как-то надежнее.
Златка села не стул, вынула карманное зеркальце, глядя в него, поправила прическу. Не глядя на собеседника, сказала:
– Знаете, я совершенно одинока. Муж убит на войне, родственников никаких. Поклонников много, но ни один из них мне не нравится… Вы тоже, кажется, один?
– Как перст.
– Не скучаете?
– Некогда.
– А я скучаю.
Славица поиграла прядью волос.
– Мне очень не хватает человека, который бы…
Шмелев сухо произнес:
– Ничем не могу вам помочь.
Красавица обворожительно улыбнулась:
– Час, который я провела в вашем обществе, лучший в моей жизни.
«Умеет найтись, стерва».
– Я тоже не забуду этот час.
Она встала.
– Вы такой приятный мужчина. – Еще одна восхитительная улыбка. – Можно мне изредка приходить к вам?
– Для какой цели?
– Чтобы прикоснуться к высокой поэзии.
– Ну что ж! Разве только изредка. И не надолго.
– Мне хватит и нескольких минут.
С этими словами красавица удалилась.
«Большевички не дремлют… Впрочем, они и ей отсоветуют приходить».
Шмелев взял веник, подмел комнату, а потом принялся за прерванную работу.
* * *
Если бы только такие «безобидные» приемы использовали чекисты! В их арсенале было кое-что и похлеще.
Однажды Шмелев совершил длительное путешествие по Чехословакии и Карпатской Руси. Это было путешествие вынужденное, для заработка: писатель выступал с лекциями. Он очень утомился и в Булонь прибыл буквально без сил. Целый месяц отлеживался, «не мог строки написать». Начались «стеснения в груди», а потом – припадок: кровяное давление упало до минимума, двенадцать раз вливали камфару. Две сестры милосердия по очереди дежурили около него. Слава Богу, выходили.
За несколько дней перед кризисом к Шмелеву приходил дальний родственник его сестры («прорвался» к нему против его воли). Инженер, приехал на советскую промышленную выставку («простых» людей большевики на выставки не посылают), привез из Москвы письмо от сестры (как будто сестра не могла послать его по почте). Шмелев и незваный гость сидели на кухне, беседовали. Хозяин раз или два отлучался, и в это время гость мог влить в стакан с чаем какую-нибудь отраву.
Слава Богу, все обошлось. Судьба хранила писателя. А ведь могло быть и иначе.
Многие месяцы и годы Шмелев ходил как будто по острию ножа. Впрочем, это же можно сказать и об его друге – Иване Ильине. У русских эмигрантов, особенно у таких независимых, честных и неподкупных, как Шмелев и Ильин, жизнь была далеко не безоблачная…
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Иван Шмелев и Иван Ильин хотели вернуться на Родину. Это была их заветная мечта. Однако при жизни ей не суждено было сбыться. Это произошло только после их смерти. Прах того и другого был возвращен в любимое Отечество и нашел последнее пристанище на некрополе Донского монастыря в Москве.




 Николай КОКУХИН
Николай КОКУХИН 


Нашла!
Не часто выпадает такая удача: найти то, что захватит с первой строки до последней, зазвенит созвучием в душе. Как Но потрясло другое. Как давно искала я это! Речь о статье Николая Кокухина «С вами я горжусь моим разрывом…» Евангельское прочтение комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». И как удачно названа рубрика: «Восполняя пробелы», под которой в № 25 «Литературной России» опубликована эта статья.
Ольга Кондиус
Член Российского союза писателей
Статья не разочаровала. Ольга Кондиус