Михаил ТАРКОВСКИЙ
ОЗЁРНОЕ ЧУДО
О прозе Анатолия Байбородина
Огромная земля русская требует летописи, свидетельства, а главное любви, выраженной в сокровенном слове, где драгоценность – не тот или иной факт бытия, а вклад человечьей души, её раскрытие в жертвенной тяге к родному. Велико и недосягаемо святоотеческое наследие, но сейчас поведём речь о литературе земной, светской, тихим подмастерьем глядящей на заоблачные белки духовного слова.
Тёплая и благодатная средне-русская равнина многоголосно и соборно выговорилась голосами девятнадцатого века. Орловские, Тульские, Воронежские земли так напитали даль голосами Лескова, Толстого, Бунина, такой густоты настой оставили в осенней воде дворянской литературы, что, когда приезжаешь, сквозь будничный пропылённый облик, с трудом узнаёшь черты, выведенные когда-то по юной душе алмазным будто резцом.
Странным островом проплыл Санкт-Петербург, явив непостижимые образы Гоголя и Достоевского, сколь призрачные, столь зримые и великие. А Волга… Дон… Да каждая водная жила, каждая губерния Средней России так выражена в исповедном слове, что кажется ни к чему и браться за перо – всё уже сказано… А главное, задана планка.
Но как разговорилась в двадцатом веке Вологодчина! С какой силой крестьянское слово прямой речью земли влилось в реку литературы и стало её фарватером, стрежью, быстерью.
К Востоку слабеют наслоения слова, и не столь тощеватей литературные грунты, сколь меньше городов и гуще леса. Просторней дышится сочинителю, уже не толкающему локтем собрата, не чующего под боком ревнивого дыхания. Щедро дарит Россия-Матушка ношу отвечать за край или область, как Аксаков и Даль за Оренбуржье, как Бажов за Урал.
А дальше за Камень?..
Чем реже человечьи скопления, чем безмерней, болотистей и солоней вёрсты – тем дороже тепло очага, человечья близость. Пласты земной плоти отмежёваны речными телами будто в послабление душе, в пощаду, чтоб удалось хоть как-то уложить-оприходовать простор… Иртыш с Тоболом, Обь с Катунью и Бией… Солончаки, степи, тайги… А к Востоку за Батькой Енисеем и вовсе мерзлотный камень, скупой и суровый кряж восстаёт в щетине тайги и так и тянется волнистым громожденьем до края света…
И огромными материками простираются духовные миры, ухожья, как зовут ангарцы охотугодья. У каждого свой хранитель, своё отражение, своя пресветлая тень на литературном небосводе. Купол Шукшинской души как незримый оберег над Алтаем… А за ним сердце России, невообразимый пласт Енисейской земли, почти четыре тысячи дымных горных вёрст от Монгольской границы до Диксона… И её то светлая, то горестная сень в причудливом дышащем слове – Виктор Петрович Астафьев… И наконец Байкал с бирюзовой Ангарой – ухожья того, чей промысел только высвободился от земных путей и путиков, оставил незатянутой шов, то и дело стреляющий в сиротеющих душах.
Велика Сибирь, а берёзовые околки рассказов, кедрачи повестей всё как-то по югу лепятся. Где пообжитей. Север с жемчужными Путоранами Астафьевым обживался вскользь, но зато бригадно и честно осваивался норильскими писателями. И Эвенкия не смолчала, выплатила литературный ясак народным словом тунгуса Алитета Немтушкина.
Но это север… А великая почвенная литература всё-таки вызрела на более южных трактовых землях, где за четыреста лет укоренилось русское крестьянство, протянулось жилами поморской речи, казачьих песен, сказов. Крепко отстроилось стайками, заплотами, избами с наличниками, среди которых есть домищщи, рубленные с кедрин, распущенных повдоль. Глядишь на них, и кажется, торцы углов набраны из полумесяцев, лунных доль. Так бревно к бревну устаивался вековечный уклад, боль за который и стала темой нашей почвенной литературы.
В подтвержденье обратим взор на восточные рубежи, на берег Тихого Океана. Здесь не так долго живут русичи, как в коренной Сибири, поэтому не нажила ещё Россия крестьянского назёмного слоя, пойменного, парного, где взрос бы в один Богу известный день ли, век чуткий к книжной мудрости мальчишка. Поэтому классики тут отметились по большей части экспедиционно: Пришвин, Чехов, Павел Васильев, или революционно, как Фадеев. Да Рытхэу, уехавший с Чукотки в Ленинград, и геолог Куваев. И наш современник Кузнецов-Тулянин, забивший пограничный столб, геополитический репер в скалистый Кунашир.
И только верный месту, как пристойный зверь, неповторимый Владимир Клавдиевич в своей первопроходческой литературе так и остался бессменным символом-хранителем Приморья.
Читатель, пытко следящий над нашим подоблачным лётом, уже спохватился:
– Ясно: Хабаровский край, Приморье, Сахалин… Но, други, а где же Забайкалье иАмурская область?! Где пролёты Верхнеудинск – Чита – Хабаровск? Как пропустили мы две тысячи семьсот шестьдесят три родных километра, самых немыслимых по красоте, суровости, завораживающей силе? Миновали заезжие дворы, не утолили дорожный глад в позных харчевнях, не оглядели долину Селенги с Омулёвой горы?
И впрямь кажется, будто перо наших классиков, омакнувшись в байкальской священной синеве, настолько напиталось силою и увеличивало нарыск и размах строки, что чудно отброшенное к Тихому океану, застыло в недоумении: отчего для стольких пропущенных непостижимых территорий не хватило чернил?
Забайкалье, самая малоизвестная и малонаселенная окраина России, и в слове меньше всего представлено в литературной карте. Конечно, навсегда остались и Черкасов, и Вишняков, и другие замечательные писатели, подвижники и хранители родного края, но, как ни крути, такой плотности великих имён, как в более западных улусах, здесь не найти…
А напрасно, потому что слишком уж мало знает читающий люд густонаселенного запада России о забайкальских краях. И многие москвичи или воронежцы слабо себе представляют не только Хилок, Чикой, Могочу и Магдагачи, а и не всегда знают, что лежит восточнее: Улан-Удэ или Чита, и что до революции Улан-Удэ звался Верхнеудинском, будучи городищем русских порубежных казаков.
А полюбить бы русским всей православной душой труднейшие эти вёрсты, лишь недавно сшитые друг с другом асфальтом, эти сопки, поросшие чахлым и неожиданным для Восточной Сибири соснячком, степи, и в марте ярко желтеющие сквозь скудный снежок, приземистые избы, отвесные струйки дыма, меловые увалы в рельефных рёбрах…
Если бы вы знали, что это за земля и какие люди здесь живут! Что такое семейские староверы, попавшие сюда аж при Екатерине! Что такое степь с бурятскими чабанами, рыжие лохматые коровёнки, возлежащие на федеральной трассе М-58, меж которыми пробираются со стороны восхода пыльные праворучицы с загорелыми перегонами за баранками. И встают в Тарбагатае в заезжем дворе "У семейских", где хозяйка всё никак не утихомирит гавкого кобелька Мишку, и под утро не дающего спать путникам.
«Где ж та деревня?» – Далёко,
Имя ей «Тарбагатай»,
Страшная глушь, за Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой, –
так заглазно воспел этот посёлок Некрасов в поэме «Дедушка».
– ... Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад –
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!..
Воистину дивные… Земля, завораживающая путника, очарованно пропускающего сквозь душу гривы сопок с соснячком и листвяжком, борт склона, что скально ощерился на трассу, разлом реки с шивёрами и порогами, степи, утягивающие взгляд нераскрывной своею тайной, озера, стеклянно замирающие в морозную ночь. Гулко, раскатно и стонко гукающие свежим льдом, пронзаясь стрелами серебряных трещин. Трудная земля, требующая служения. Трудные жизни, воистину – судьбы, проколевшие, выбыгавшие на морозе, выдутые ветрами, выжженные солнцем, правые трудовой правотой, многовековой крепостью... Как они требуют любви! Да вот кто бы выразил! Кто бы возлюбил эту землю в слове, как Астафьев Енисей!?
Уже разорили хозяйство, позакрывали заводы, посокращали армию, оголя границу в и без того трудном округе… Только Транссиб ниткой связывает и держит поселки, и вечный гуд поездов мешается с летним шумом ветра в листве… Не то поезд шумит, не то дерева мнутся, мятутся о тайне этой земли и трудовом её человеке...
Плохо спится на многоснежном Енисее, когда знаешь, как зябко забайкальской земле под тонким снежком, как зыбко ей под губительским нерадением… Да и самому Батюшке-Анисею не заспать заботу: то Ангара нашепчет, принесёт последний сказ с Байкала, где вода упала, да так, как и старики не упомнят, то селенгинская водица выплетется из многоструйного речного тулова, расскажет, как по берегам восточного братца Амазара китайцы лес пластают…
Ау, даль! Слышишь, как ворочается Батюшка-Анисей? Как стрелил двухметровым льдом, катанул морозное эхо к Тихому Океану. Вот и мой крик прибился к нему. Уцепился за зудкий полоз… Отзовись! Есть кто дозорный по Забайкалью?! Есть кому укрыть оберегом тёплого слова степь, дрожащую от стужи, озёра с тихим зелёным льдом и сонными чебачками? Не молчи, а то не заснуть на Енисее, так базлает постылый Мишка в Тарбагатае (даром что тёзка, от язви его!) – что рвётся душа за недогретую и неопетую забайкальскую землю! Отзовись смелый человек с болеющей и чуткой душой!
Слышу сквозь ночь, сквозь свист ветра, сквозь хлёст снега о «салафановое» окно зимовья:
«– Не волнуйся Анисей-Батюшко! Не бойся, брат Михайло! Есть кому отстоять Забайкалье, обогреть степную еле припорошенную твердь, спасти чудо озёр от лютого проколения! Уберечь русскую душу от вражьей осады. Сохранить заповедный русский язык, его дальний сквозьвековой строй, сказовый дых».
Анатолий Байбородин...
Вот ведь к каким ухищрениям пришлось прибегнуть, чтобы утаить его, давно известного, замаскировать до поры и открыть в долгожданную и тёплую минуту! Все громче его далёкий голос, и уже крепко на душе, ближе Забайкалье и сильно на сердце, которое знает, что не урвётся от расстояний… И тем веселей загудит топор и пешня в руках, чем твёрже приляжется к ним книга "Озерное чудо".
* * *
Открывает книгу особенно дорогая не только читателю, но и самому автору повесть «Утоли мои печали». Она, как и многие произведения Байбородина, строится на личном, на истории детства, которое сколь и единственно, столь и бесконечно и, расплетаясь на жилы, подробно и многоствольно прорастает через всю толщу творчества. Истинный писатель всегда пишет одну книгу, одну судьбу, как бы не рядил её для отвода глаз в одёжи разных сюжетов, различных героев. И всегда корень, ключ – чуткий человек с огромным, разверстым и потому навеки раненым сердцем. И очаг, родник боли в детстве, голодном до душевного тепла не менее чем до хлебной корки, трудном, трудовом, но чистым духом. «Керосинка с протертой до незримости стеколкой» – образ точнейший, и очень хорошо отражающий суть того, о чём пишет писатель. Да и вообще сибирской жизни, в которой богоданная и бьющая в очи красота природы вопиюще закопчена несовершенством человечьего существования. И противоречье это падуном-водопадом режет израненную душу мальчонки с такой знакомой силой, что уже перекликается с житием маленького Витьки из книги Астафьева «Последний поклон», и с той же, знаковой для русской литературы исповедальностью, горечью, благодарностью освещает пронзительный финал этого откровения.
В повести «Утоли мои печали» Байбородин не снисходит до времени и его явных примет, услужливых и навязчивых, как у верхоплавных литераторов, заострённых на заигрыш с читателем. Нет… Конечно, вехи стоят на этой продутой позёмками степной дороге, но только самые важные, без которых не понять героев. Которые как обвал, разлом… Как те «кровавые антихристовые времена», свалившиеся на «русские головы», когда «фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки». Но главное дальше – главное в том, что мать вопреки всему сохранила: «ночные и зоревые молитвы да образы от тятеньки и маменьки» и самую заветную «в позеленевшем медном окладе» – икону Божьей Матери «Утоли моя печали».
И всё как всегда на Руси: конь, земля, отец, мать, молитва, земля… Монолитное русское время, сплетённое из накрепко сплавленных проводов… Вот отец фронтовик, едва не утонув во вздувшейся от дождей реке и отмечая возвращение домой из затянувшегося похода в село, открывает гуд с непотребным сродником Гошкой и заводит боевую песню, под «мясное хлёбово», дымящееся на костре... А мать, прождавшая, казалось, вечность, только задумчиво произносит: «Вот и прошло Вербное Воскресение»… Две жизни, две дороги… Так текут в сизом небе прозрачные облачные гряды, проходя друг в друга, скользя бок о бок, не разделяясь и не сливаясь воедино.
Повесть написана как житие, как попытка осознания судьбы главного героя Ивана, простёртой на три поколения. И требующая выявление главных смыслов, путеводных створов, ведущих героя… В повести несколько главных героев, они, как созвездия, как духовные сущности, проходя через которые с великими потерями, Иван напитывается невыносимой тягой понять: а зачем в этой вьюжной жизни угружает его Господь Бог такой неподъёмной поклажей. Вот они все: мать, брат Илья, отец, дочка, и сам герой, который в последней части повествования крепче берёт поводья и правит сам в себя, в свою память и, уже не различая границ между близкими, насыщаясь их смыслами, становится чрез это человеком.
Мать, самая пресветлая, пресвятая ипостась, самая сокровенная составляющая духовного мира Ивана. Плоть от плоти русская женщина – страдалица и хранительница. Её и обсуждать-то грешно, неловко. Только в ноженьки поклониться!..
Старший брат Илья. Пахарь, загульщик, песельник… Живое без прикрас человеческое существо. «Уродившись характером широким, как Сибирь», сильный и бедовый, не умеющий жалеть себя и живущий безо всякого расчёта, оглядки. И как многие сибиряки подвластный тяге простора, дороги, той самой магии пространства, чужедальней стороны, которая и вовлекала русских первопроходцев в годы походов. «Гонял скот то в Читу за триста вёрст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже». И требующий от жены такой же душевной шири… И не пожелавший перебираться в город, куда жена стремится в поисках комфорта и «порядка». И потерявший жену, а потом и пожалевший, и запоздало согласный, что надо было держать удаль, не давать размаху, шату, потому что так всё и разлетится-развеется бравой песней по степи… И будешь потом с покаянной виной и тщетным поклоном жалеть: «не зла желала, к порядку приваживала»…
И вроде сошелся после с другой женщиной, да так… уже без особой надежды на крепкое и дружное житьё… А душа требует шири, объёму, и неспроста песня так много значит для Ильи, ведь сердце, чуткое к песне, и о земле ведает главное. И ведение это так обнажает душу, так отнимает у материального, что навсегда лишает чувства опасности, пощады к себе, и эта рвущаяся вовне душа в какой-то момент не в силах уберечь защитную свою кожурку… Таким и полётней, и провальней, и труднее всех. Вспомним певца из Турочака Василия Вялкова, погибшего в вертолётной аварии.
А Илью сбросил необъезженный конь.
Рассказ о брате вроде бы вступительный, и думаешь, что Илья просто первый из череды героев, а потом оказывается, что его история и есть одна из главных: потеря Ваней старшего брата. Илья был мальчику ближе ближнего: родители жили на отшибе, отец служил лесником на удинском кордоне. И их с сестрёнкой отдали в семью Ильи, в село, где школа.
Отец такой же и трудовой, и трудный. То упрямый, то чёрствый, то загульный. Неизбывный узел боли для матери. И маленький Ваня как на юру меж ними. У матери забота ближняя: от надсады, простуды защитить, накормить-обогреть, от стыди жизненной оберечь. А у бати – втянуть в мужицкое, трудовое, помошницкое… И мальчонка в вечном разлёте меж матерью и отцом. А так охота с батей за жердями для заплота поехать. А мама не пускает… А тут как раз сретенская оттепель долгожданная, первая, та, что то после морозов, как велия милость.
«Среди череды морошных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядном мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребёнчишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, – милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлёстанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-тёплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками».
Как знакома это брюхатость туч, похожих на косяк рыхлых каких-то рыбин! И то, что в оттепель размораживаются запахи, будто копясь, чтоб обрушиться на чуткую душу.
Мать сдаётся, и мальчишка отправляется. В пимах, напяленных на валенки, – можно представить насколько ему неуклюже! (Пимами в Восточной Сибири называют камусную обувь, навроде сапожек с матерчатыми голяшками. По сути это обрезанные бокаря или торбоса. Их не надо путать с валенками-пимами, описанными Шукшиным, там другая история.)
Трясется лошадёнка, свистит ветерок в сбруе, свистит полоз по насту… Талый снег уже подстыл на ветру – зима-то не отпускает… И вот, то степь, то околочки леса… Березнячок, «там и сям желтеющий соснами, и копотно чернеющий кряжистыми лиственницами»… «Копотно» – очень по-Байбородински сказано, да и листвяги у него всегда чёрные, контрастные, силуэтные, подчеркивающие голыми ветвями предвечный небесный свет…
И ещё герои Байбородина поют. Поют песни, которые надо знать и любить. Тогда они сработают на обоюдную работу писателя и читателя. Тут как на неводе: писатель замётывает, а читатель до поры на берегу стоит с бережником, а как тот заметался, ткнулся в берег, – тащить уже вдвоём надо… Русская проза тем сильна, что требует участия, читательской подмоги, совместного созидания, которое и тяжело поначалу, но зато так тебя переделает, что к концу в ноги поклонишься за трудовое это перерожденье. Это та же стройка. Тот же сруб. Художнику «в одново», без подмоги и не закатить бревно на самую высь – только вдвоём. Потому и славно, когда читатель участвует встречно, как и сейчас, и с той же любовью, что и автор, пропевает частушки, протягивает, прошёптывает, прогоняет через себя жилы песен, как нити санного следа, как струи позёмки… А без читательского участия они так и останутся отпечатанными куплетами.
Песня – она как живая вода, все заскорузлые части жизни омывает и воедино собирает… Или сказать наоборот: как связывающее раствор вещество, как гранитный отсев – самый лучший для связки бетона. А стройка не кончается… И дорога тоже. Если она к свету…
Вот так и отец пел по дороге. Несмотря на все заскорузлости в отношениях с сыном… «Вытягивал песню по всему санному пути», и в этой песни среди степной дороги столько дорогого открывалось. Столько погруженного бессловно в самую глубь, в кости, в кровь, льющуюся то в эту землю, то в жилы потомков… Так тщится душа выразить невыразимое, невозможное, и так передается эта тщета песней – старинной ямщицкой, Пушкинской дорожной, казачьей прощальной – песни, как знака сокровенного, пожизненного, родного…
Сколько таких Вань, Ген, Стёп пробираясь по сибирским дорогам на коне ли, на тракторе, «камазе», снегоходе, выискивая долгожданный огонёк, напевали час за часом знакомый напев! В душе ли, в голос… И песня даже будучи для кого-то отвлечённо-музыкальной и картинной, наполняясь жизненным, личным открывалась в главной уже полноте, сливаясь с душой навеки…
Ванюшке чудилось, что песня сама «навевается из степи», что напевает её «тихий ветер». Он видел «замершее отцовское лицо», «слёзы, поблёскивающие в глазницах, – вышибленные встречным ветром», и понимал, что поёт её всё же отец». И вдруг «так ему стало жалко отца», что «проступили слёзы»… Но «жалость не мучила», и внутри Ванюшки «что-то легчало, будто распахивался тугой ворот… ». И «ветерок, казалось протекал и сквозь него».
Так же пела мать, когда собирали голубицу.
На сбор голубицы особое внимание обрати, чуткий читатель! Она и вправду хороша, эта ягода редколесий, осенняя надёжа соболя… «На загляденье крепкая, хрушкая, с нежно-сизоватом налётом на бочках, сквозь который до самой глуби призрачно высвечивает голубизна». И сопки в синем мареве… И усталость уже морит ребятишек. И «говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка березовой листвой шелестит песня…». А вот и ночь скоро опустится.
И вот она опустилась… Эта сибирская ночь, полная могучего дыхания пространства, и тайны людей, близких и далёких… «Печально шумели в ночном ясном небе вершины древних сосен и лиственей; изредка в хребте лаяли полуночные гураны, стыло и отчуждённо Млечный Путь, – гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души»… Так чувствовала это небо мама.
Поход за жердями чуть не обернулся гибелью для отца и сына, оттепель отыгралась пургой, и путники сбились с дороги, совсем как в той песне.
Многое пережил Иван. Глядел, сдерживая ком, на мать, доживающую последние дни у сестры, вернувшись в село детства, стоял напротив своего дома, давно заселённого другими людьми… И вот уже и нет родителей, и дочка подросла, и общаясь с ней, приближаясь к ней и открывая её взрослеющую душу, он вдруг начинает переживать, что в детстве не было у него близости с отцом… И как задувает в степи ветер, как завязывается у горизонта млечный морочок позёмки, так и начинает прокладываться в душе сквозная родовая дорога, полная горечи, вопросов, надежды.
И его собственная душа всё сильнее кажется ему слабой, чересчур отворенной для чужих воль, заезжим двором, куда заходят-заглядывают разные люди, и где добро силится одолеть зло, да силёнок не достаёт. И хотя в этой гостевой избе чужая душа не находит себе «улёжистого места», но зато какое «крылистое чувство лёгкости» он испытывает, примерив это чужое, привнесённое, то, за что можно не отвечать. А дальше встаёт вопрос, а какая она вообще, его душа, какой была изначально, и какой стала, чем заполнилась… И кажется Ивану, что больше в ней всё-таки жалостливого, материнского, смиренного, чем жёсткого, силового, нравного отцова.
«Когда была уже докурена и погашена папироска, когда страдальчески осветленный взглядом уже невядяще смотрел сквозь клубящийся сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом».
А потом, оставив Ивана отходить от потрясения, автор медленно переводит камеру на новый ракурс, приближая к предфиналу, в котором «плетутся на сморенной кобылёнке сквозь снежный буран два одиноких человека, отец и сын, а степная метель, охлёстывая ковыль на буераках и кочках, протяжно с подствистом и подвывом поёт».
И снова выплывают из снежного морока отношения с дочерью Оксаной, которая то раздаст добро, то щенчишку бездомного в избу пустит… И с другого борта сквозистой души обида на отца восстаёт… Почему «пил, да нас гонял?». И почему не разговаривал со мной так, как я сейчас говорю с дочей? И сам себе тут же отвечает Иван: да ведь нет, был отец и другим, и крепким, и хозяйственным… Нас же поднял ведь… Да и вообще, может дело не в отце, и не в дочери? А во мне самом?
Так копает и копает герой своё прошлое, свою душу и штык за штыком уходит всё глубже и глубже в проколевшую твердь вековечных вопросов, где сквозь всю их неподъёмность сверкнёт вдруг самородная надежда, что мамина душа всё-таки победит… осилит, одолеет закопчёное стекло, протрёт до кристальной чистоты уже близкое к итогу жизненное небо… Расчистит дорогу свету, что сеется нетленно и предвечно с ненаглядного сибирского небосклона…
Этот Христовый свет и освещает финал, пронзительный и абсолютно классический. Вот он «опять высветлил степную околицу, извилистый санный путь, через который струилась и струилась вечная позёмка, завораживающая глаза, как речная течь». И вот – и русская дорога, и родовая повязь, трактовая связка: отец-сын-дочь, и песня ямщика… И близкие перевиваются настолько нераздельно, что уже не различить, где ушедший брат, где отец, а где дочь, «не отводящая глаз от шуршащей и вечно текущей позёмки»… А степь не кончается, загибается плавно к небу, и чернеют на едва приметном изгибе меркнущие силуэты ездоков… Вот в общем-то и всё.
Остаётся только назвать песню. «Степь да степь кругом».
* * *
Как вообще сейчас пишет народ? Вроде, в среднем неплохо, много хватких авторов. Хотя общий уровень, как замечает в интервью Анатолий Байбородин, – журналистский, очень много похожих по интонации, по манере книг. Оно так и есть. Основная часть современной литературы обезличена журналистским говорком-наречием, будто узаконенным и делающим авторов похожими друг на друга...
Забыт русский язык, не только во всём многообразии цвета, звука, сравнений и эпитетов, суффиксов, приставок и прочих возможностей… Забыт и всячески вытравливается язык, как носитель национального, когда каждое слово, подобно сакральным буквам древнерусской азбуки, хранит миры, настолько дорогие русскому сердцу, что многие книги и не возьмешь за один присест – слишком силён взвар смыслов... Такова проза Лескова, Шмелёва, Платонова, такова поэзия Клюева.
Я спросил Анатолия Григорьевича, как он относится к поэзии Николая Клюева. Вот что он ответил: «Клюев в слове слил воедино древнерусское языческое слово, северное сказовое, былинное и церковнославянское, слив в образах и эти миры; и по мудрости горней, по русскому образному слову превзошел всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилить. Он – воистину гений; но он уже закодированный, он как исследователь русского мира; а Есенин, скажем, превзошел его по ясной, истовой любви к Руси, к русскому простолюдину. Я, кстати, писал тебе раньше: Астафьев далеко обошел Шукшина по слову, но до его совести, до его сострадательной и восхитительной любви к русскому народ не взошёл. Лишь Шукшина, в некой мере и Белова, можно повеличать совестью народной. Так я думаю».
Подобную заповедную территорию и созидает православный писатель Анатолий Байбородин, сливая в своей прозе все ипостаси Русского мира. Созидает вопреки всему и уже не обращая внимания на упрёки в «орнаментализме» и прочих «великих преступлениях». Безусловна проза Байбородина и трудна своей завершенностью, той самой закодированностью, – не зря автор всю жизнь дорабатывает свои книги. А как по-другому, если оставляешь завещание, свой образ того, каким должен быть русский мир в прозе? И каково созидать этот мир, не отступая, выдерживая по всем осям, вертикалям и горизонтам, включая все соединения, пазы и шипы огромного этого дома? Ведь что есть изба без порога, матицы, печки? Что-то одно убери – и всё рухнет… или просто не перезимуешь.
Языковое богатство Сибири Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплетя в полотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов. «Большую часть творческой жизни посвятил я очеркам и статьям, а также составительским проектам, среди них "Русский месяцеслов. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы, жития святых", который был издан изрядным для провинции и для времени тиражом…» – пишет Анатолий Григорьевич. Да конечно, чувствуется и эта пропитка: «На Благовещенье весна – молодица-медведица – переборола зиму-каргу; та весну стылым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, капелями плачет»… или «На вербе пушок – весна на шесток, – улыбалась мать ребятишкам. – Зимушку пережили, слава Те Господи». (Повесть «Утоли мои печали».)
Он и само словопроизводство обновил, прочистил от наносника заброшенные покосы, омолодил словострой, пройдя по старицам, взявшимся ряской и не соединенных протоками-висками с основным руслом, уже сильно поуродованным и замусорённым. Так, соединяя воедино протоки и идя единым пластом, работает большая вода, неся ярко-белые лебедя-льдины, мокрые искрящие на солнце выворотни, промытые до блеска морёные корни… Действительно важно вернуть корневой основе слова полное сияние… Ведь иной раз смотришь, а осталось-то где по два-три лучика, где по одному… А где и вовсе померкло слово, угасло, как сосновый ствол на закате.
Взять словечко «копотно»: читатель привык «копчёный», «копчёно», а автор взял и изменил слову хвостовое оперенье, пустил в ту же сторонку, что и «хлопотно», и вот уже новое дыханье, новое оконце отворилось в привычной словесной основе.
Жаль горожан и особенно зауральцев, обделённых возможностью оценить изнутри сибирскую, а то и просто деревенскую жизнь. Слово проходит через их души, не раскрывшись, потому что ни с чем не связано. Например, слово "урос", «уросить», которое в Сибири значит «капризничать», «шалить» (на русском севере, скорее, «упрямиться», «упираться»). Пока не пообщаешься с этим словом в жизни, пока не обрастёт оно воспоминаниями, не перевяжется с судьбами, так и останется оно «чем-то там сибирским» или хуже того – книжным. Но и это не беда: даже в незнании пытливое сердце найдёт и прок, и урок: на свой лад допроявит картину, образ ли, слово.
«Как-то он умеет выстроить текст так, что у него каждое предложение заключено само в себе и словно бы одето в скорлупку, это, может быть, похоже на кедровый орешек» – пишет о Байбородине Татьяна Соколова скорее с упрёком, чем в похвалу, несмотря на сравнение с кедровым орешком.
Байбородин пишет, как считает нужным, а не «как выходит». Законченность и густота его глубоко осознанная. Как может понять читатель из его статей и интервью, он мастер, а значит, может работать по-разному, может даже «если чо» завернуть и диалог на британском (рассказ «Дворник»). Манера выбрана сознательно, выстрадана, и следует не её обсуждать, а думать о том, почему он избрал именно такой путь. И что защищает и оберегает он своими книгами.
А так… Набросал бы пару конъюнктурных романов про шаманов, наплёл какую-нибудь псевдоэтническую бодягу про древних бурятских богатырей, оживших на мостах Верхнеудинска, на которые так падки целлулоидовые читатели, не ведающие жизни Родины, – и давно бы красовался на полках книжных «маркетов».
Вычитал, в критике, что Байбородин, дескать, "переперчивает свои произведения сибирскими выражениями"… Будто язык не содержание, не смысл, не мера объёма для хранения дорогого, а приправа. При том, что большая часть нашей страны – Сибирь, пусть менее населённая, чем Зауралье, но зато с особой значимостью, выпуклостью каждого поселения, будь то зимовьё или региональный центр. И именно Сибирь нынче заповедник русского, именно сюда, следуя выражению моего знакомого старообрядца, не добралась ещё мировая «скверна». И сибирское слово – это сегодня самое незамутнённое русское слово, и сказать, что им «переперчили», всё равно что сказать: переперчили родным, спасительным, русским… «Уподобляемся иностранцам» – сказал бы Шукшин с интонацией Егора Прокудина: «Опускаюсь всё ниже и ниже»…
А ведь такая возможность окунуться в стихию языковых образов, тем более человеку городскому, книжному, которому многое знакомо хотя бы по Далю.
Сталкивался порой с отношением жителя Средней России к Сибири, как к чему-то далёкому и отдельному. Все мы понимаем, насколько это опасно, и чем грозит… Примечательно, что для сибиряка Россия – это единая земля, нужная и родная. И выходит, что с востока, с хребта видать всё до Балтики, а оттуда сюда – будто залом какой. Что заломило-то? Какой такой тальник? Каким льдом пропахало?
Вот и пример: тальник в Средней России называют ивняком. И при этом сибиряк знает и ивняк, и тальник, – а москвич только ивняк. Трудность и в том, что многие, хорошо известные среднерусичу, слова в Сибири имеют несколько другой смысл. Например, в выражении «рыбы добыл дивно» – «дивно» имеет смысл «много». Или часто встречающееся у Байбородина словечко «браво». Бравый – не в привычном смысле молодцеватости, а в значении хороший, путний, добрый, качественный: «бравенькие огурцы» – значит крепкие, хорошие. «Ты моя бравенькая» – скажет забайкалец про жену. Если этого не знать, то можно обвинить автора в неуместном каком-то словоупотреблении, в отсутствии вкуса или меры. А дело-то оказывается в читателе… Поэтому к такому чтению и надо относиться как к обогащающему, хотя конечно… оно для тех, кто любит. Дорожит. Кого каждое словечко обрадует. Анатолий для таких и пишет.
Очень важна древняя, идущая от язычества народная привычка одухотворять природу, древнерусский и бурятский замес этого одухотворения, который в жизни вовсе и не вступает в рознь с православным… Это одухотворение слитно с сыновним доверием к великому распорядку, с ежечасным послушанием, когда от человека не требуется ничего нового – только быть достойным этого Божьего мироустройства и своей, завещанной предками земли. И когда Димитрий-рекостав скуёт озеро, чудо рекостава особенно потрясёт незакопчёные детские души – будь-то волшебство скольжения по льду на коньках или сама таинственная жизнь озера (рассказ «Озерное чудо»)…
С ещё недавними волнами, вдруг замершими на «измождённом взлёте», когда после студёной ветреной ночи на тихой заре оно вдруг откроется взору – запредельно недвижное, замершее. И поражающее отвыкший взгляд, нашедший опору столь внезапно, что от этого будто на миг пошатнётся-вздрогнет забывшийся мир. И в этой ледовой статике ещё больше непрекращающегося движения к смыслу, чем во вчерашней суетливой, неряшливой ряби. И только инеем светится «увядшая приозёрная ковыль», да седина укрывает «белёсую щетину построжавшей земли».
Тончайше и глубинно в рассказе «Озёрное чудо» открывает писатель свой дар «пронзительно переживать времена года». Особенно осень, когда душа «сквозна и проглядна и готова кажется повеяться к небу», и долгая зима, когда «озеро родниково» выстаивается, так же как и души зимующих со всеми своими бедами и потерями… И недолюбленные детские души, и взор ребёнка сквозь лёд, в бесконечную неземную глубь, где он завороженно пытается найти нездешний покой, чарующую печаль, силится избыть ею горечь недетского своего бытия, уйти от родимого дома, хмельного и безрадостного... И «жгучие дымные холода», и ожидание весны, и озеро как центр непреходящего чуда, пульсации непостижимого, как подтверждение Божьего существования и надежды на спасение.
На то оно и слово. На то и душа читательская, чтобы каждый раз по-своему – пусть и в свободе неведения открыть-представить себе суровую и далёкую эту жизнь, сделать её на несколько сотен страниц ближе. Вижу – тысячу читателей, и тысячу таких представлений, и тысячу Озёр... Будет у каждого своё озеро, и свой отвоеванный у суеты покой, в котором выстоится душа в размышлении о сокровенном. И читатель, проколев и угревшись, пережив Озерное чудо, найдёт и в себе древнюю тягу к строгости и сам построжает за эту ночь преображения… И почувствует подлёдной глубью души, что лишь в православной строгости и труде устоит русский дух, в сохранной собранности и отторжении наносного, привнесенного, преходящего… Так веками выстаивается в спасительной стуже и русское слово – то кристально прозрачное, то густое от смыслов, что медленно ходят подводными травами, глубинными нитями древней памяти. Под озёрным стеклом… Рядом… Почти под ногами…




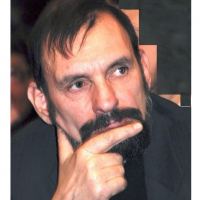
 Михаил ТАРКОВСКИЙ
Михаил ТАРКОВСКИЙ 


Сочная, богатая по языку и по мысли проза Анатолия Байбородина и не менее достойное Слово о ней Михаила Тарковского!!! Радуемся!