Евгений ТРУБНИКОВ
ТИМКИНЫ УРОКИ
Рассказ
Эдька Шарманов был новичком в 3-м «Б» классе. Его отца в этом году перевели сюда с другого прииска на должность мастера дорожного строительства. Придя первого сентября, занять место не торопился. Подождал, пока все, по воробьиному щебеча, расселись привычным, очевидно, с прошлого года порядком, подошёл к свободной наполовину парте. Мальчик, занимавший место ближе к стене, заметно отличался от прочих в классе. Среди красногалстучной оравы он смотрелся как-то инородно – не по размеру серый из дешёвой ткани пиджак с подвёрнутыми рукавами, явно от старшего брата, серая же рубашка. Галстука не было. И вёл он себя не как все, ни с кем не заговаривал, не оглядывался, полупрезрительно молчал, как старший среди незрелой малышни. Звали его Тимофеем Бедарёвым.
Он и действительно оказался на два года старше прочих, но не причине второгодничества. Просто его родителей-спецпереселенцев в своё время загнали на самый дальний участок прииска, «куда Макар телят не гонял». Видимо, столь хорошая «сопроводиловка» с ним пришла, что местная милиция предпочла держать его поглубже в лесу и подальше от себя. Но постепенно зав. хозчастью прииска понял, что Дмитрий Бедарёв – мастер на все руки: и плотник, и бондарь и столяр, и шорник, и место ему не где-то на выселках, а в центральной мастерской.
Старший Тимкин брат Егор, 15 лет от роду учился сейчас в железнодорожном училище на станции Завидная – ближайшей к их краям станции, там и скорые поезда останавливались. Ученики в этом училище проживали в общежитии, носили чёрную форму – гимнастёрка, штаны, фуражка, ботинки и ремень – на металлической пряжке выпуклые буквы ЖУ. Поселковые пацаны по-своему расшифровывали эти буквы – орали ученикам: «Жулик уличный!» и при возможности лупили. ЖУшники старались ходить не по одному, а кучкой, и при возможности лупили поселковых.
Учился Тимофей Бедарёв без особого напряжения и без всякого усердия, равнодушно получая свои твёрдые тройки.
В школьном туалете для учеников, деревянном строении в дальнем углу территории как всегда курили старшие парни, пустив по кругу одну папиросу «Норд» (из дешёвых, конечно). Вошедшему Тимофею обрадовались:
– Подходи, Тимоха, зобни…
«Гляди, уважают…» – подумал Эдька, пристраиваясь со своей малой нуждой.
А когда потом за партой машинально назвал того Тимохой, получил мгновенный ответ:
– Кому Тимоха, а кому Тимофей Дмитриевич!
Охранник базы Продснаба Ефрем Сукачёв сегодня сменился утром в восемь часов. Выспался, проверил всё по хозяйству, пошёл за ежедневными покупками в магазин. Отоварившись, подошёл к киоску, где бойкая горластая Тося наливала страждущим водки – кто сколько просил: сто пятьдесят ли граммов, двести ли, или полный гранёный стакан.
Вытянул стакан до последней капли, медленно, сладостно выдохнул на прижатый к губам рукав, достал казённый сухарь (на вахте всегда был пополняемый запас), загрыз выпивку. Достал беломоровую, почти уже пустую, пачку, направился к кучке курящих мужиков.
– Ты, вохра, халкнул свою пайку и иди куда шёл, чего тебе с нами толочься? Или вынюхиваешь чего?
Сукачёв дёрнулся, будто шилом ткнули. Обернулся на голос, впился глазами, наткнулся на жёсткий и острый, как заточка для колки свиней, взгляд «поселянина» – так звали на посёлке прибывшего недавно на поселение Илью Клеймёнова.
– Иди, иди, неча тут в гляделки играть, глаза поломаешь.
Не выдержал, отвернулся, смял непроизвольно пачку «Беломора», сунул в карман. Одарил поселянина тяжёлым взглядом, отвернулся, пошёл.
– А вы, мужики, не бздите его. Они ж борзые, когда иха власть вся, «шаг влево, шаг вправо – побег», а один на один, да без винта – тут и сдуваются…
– Да он, вроде, ничего мужик-то…
– Ага. Ничего… Тебе б к нему на зону, понял бы… Такие в гробу добреют, когда уже укусить не могут…
Задание на дом было – прочитать стихотворение Некрасова «Генерал Топтыгин», суметь рассказать содержание. А когда Вера Александровна спросила – а может ли кто-то прочесть всё стихотворение по памяти, Эдька решился. Почему-то он был уверен. И в самом деле – его несло и несло, слова сами собой выстраивались и ложились в его речь. Круглые глаза восхищённых девчонок были для него равноценны грому аплодисментов. А когда он сел, Тимка тут же ткнул его (не сказать, чтобы нежно) локтем в бок: «Хорошо чирикаешь, птица-говорун». И не понять было – одобряет или издевается.
Вера же Александровна, ласково посмотрев на Эдьку, неторопливо вывела оценку в журнале, и по движениям её пальцев было видно: «5». Затем, по своей привычной манере приглашая класс к обсуждению, заговорила:
– Вот смотрите, ребята. Как поэт без лишних слов поясняет нам систему отношений того времени. Вот: «а смотритель обругал ямщика скотиной». А за что, спрашивается? Чем этот простой трудящийся человек провинился? И в то же время – этот смотритель, он же начальник на станции, да? А что он такое перед генералами? «Нет ребра, зубов во рту не хватает многих». Это ведь генералы как хотят, руки распускают…
– А у нас сейчас лучше, что ли? Если ты начальник, тебе всё можно, а если простой, так об тебя ноги вытрут. Чуть чего – засудят, и ничего не докажешь.
Класс обмер. Все разом оглянулись на Тимку с его спокойным и беспощадным взглядом, затем на Веру Александровну. Та была тоже спокойна, но по-своему. Как всегда, по-ученически держа разведённые в локтях руки ровно по краю стола, не изменившись в лице, внимательно смотрела на Тимку. Выдержав его взгляд, не спеша, через паузу ответила:
– Ты, Тимофей (так вот, по взрослому обычно она его называла), умён, даже слишком… Ты побольше молчи, пока большим не стал… А то ведь и не станешь большим…
И через краткую паузу:
– Так. Пишем диктант.
– Тетрадей же нет, – пискнула Нонка Сурчилова.
– На листочках напишете, сейчас раздам.
Нонка Сурчилова панически (и не без причины) боялась диктантов и прочих контрольных работ. Дома она всегда за двойки получала суровую выволочку от матери, женщины одинокой и нервной, жизнь которой скрашивал этакий «пунктирный» роман с механиком парохода «Роза Люксембург». Этот колёсник в паре со своим собратом «Карл Либкнехт» почти с начала века, а значит, и с дореволюционных времён, курсировал по всей реке от её устья до их прииска. Река была судоходна и много выше, но места там уже шли практически необитаемые, там бродили лишь эвенки-орочёны со своими оленьими стадами. Навигация начиналась с середины мая, когда река полностью очищалась ото льда, и продолжалась до середины октября, когда с северных верховьев реки начинали идти льдины. Такими были временные рамки этого недолгого, как полярный день, маленького призрачного счастья этой женщины. Перспектив здесь не было, но она по жизни давно привыкла довольствоваться малым, с тех пор, как в 42-м получила похоронку на мужа. До Нонкиного рождения тогда оставалось три месяца.
В том же 42-м перестали приходить письма от мужа и Вере Александровне, тогда ещё студентке педучилища Вере. Обратившись в областной военкомат, получила ответ: «Ваш муж, младший лейтенант Черемных Иннокентий Терентьевич пропал без вести в ходе боевых действий Красной Армии в районе города Старая Русса». И это было всё, что она знала об его судьбе, пролетевшие 10 лет ничего не добавили. Но день, когда она его проводила, всегда был всего лишь вчерашним, и никаких мужчин она не замечала, их просто не было, а был только он, ушедший лишь вчера. Она не забывала регулярно смотреться в зеркало, ведь когда он вдруг вернётся, она по-прежнему должна быть его любимой Веруней. А дни, месяцы и годы летели и летели. И вечерами, непроизвольно итожа отлетевший день, каждый раз она сожалела об одном – забеременеть не успела. Даже какую-то вину чувствовала перед отсутствующим Иннокентием.
По классу ветерком пролетело: «У Тимки с Диленом драка!». Дилен – это было сокращённое имя Владилена Сукачёва, сына того самого Сукачёва из охраны Продснаба. Имя первенцу старший Сукачёв, старшина ВОХРа, избрал не абы как, а придя за советом к начальнику, политически безупречному командиру. Он, старшина, и вообще шага не делал в простоте, по жизни шёл, как по бескрайнему болоту, постоянно прощупывая почву перед собой. А вот всё же где-то что-то не так получилось, коль на излёте уже оказался он простым охранником на базе Продснаба… Дилен учился двумя классами старше, был здоровилой и при этом весьма подлым пацаном. По этим причинам с ним очень не любили связываться.
Где будут драться, никто не спрашивал, это всегда происходило за волейбольной площадкой. Пацаны класса понеслись воробьиной стаей и еле поспели к началу действа.
Владилен, возвышаясь над Тимкой на добрых полголовы, покачивая плечами, надвигался танком:
– Ты, падла спецпереселенская!
– А ты вохра поганая! – И ловким выпадом Тимка Владилену своей правой засветил в левый глаз. Тот молча, яростно выметнул свою здоровую кулачину. Попади он – Тимку бы как муху смело, но Тимка рыбкой увернулся вправо и тут же головой в зубы встретил падающего на него Владилена. И не давая опомниться, вывалил вихрь ударов в незащищённое лицо супротивника. Тот сумел несколькими своими ударами отбросить Тимку от себя, но у них, ударов, не было уже ни первоначальной силы, ни точности. И единственное, что ему оставалось – это шепеляво вопить расквашенным ртом:
– На Колыму спецвагоном поедешь, падла переселенская, под зимним солнышком греться, а то тебе тут шибко тепло!
Пацаны из старших классов, обнимая, уводили рвущегося Тимку:
– Харэ, Тима, харэ, твоя победа, пусть повизжит, ты не слушай.
На другой день Тимка медлительно, осторожно усаживался на место. Похоже, директору кто-то очень оперативно настучал о драке, тот, имея хороший контакт с местным милицейским начальником капитаном Перфильевым, провёл свою работу со старшим Бедарёвым, ну а дома Тимка получил честно заработанное вознаграждение.
– Чё, ж… разболелась? – участливо спросил Эдька. Не мог он упустить возможности чуть-чуть поквитаться с соседом за все его злобные укусы.
– Не твоё собачье дело. Сынок! – ухватил за галстук. – Что, красный ошейник надел и рад? Начальником теперь станешь, как отец?
– Чё ты? – Эдька вырвал галстук, оттолкнул его руку. – Белены объелся?
– Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь!
Эдька смотрел, молча вытаращив глаза. А Тимофей чеканил:
– Серп и молот, смерть и голод!
Иссякнув, замолчал, вперив взгляд в дальний угол.
Дмитрий Николаевич Шарманов ещё с довоенных времён своего строительного техникума был политически выдержанным, надёжным строителем социализма. Он ежегодно выписывал главную советскую газету «Правда», областную и районную газеты и был всегда в главной струе течения. Выписывал он ещё для разнообразия журнал «Крокодил» и «Пионерскую правду», чтобы и сын вырос «в него». Два этих последних издания Эдька с удовольствием прочитывал (читать он любил с дошкольных лет), районную газету просматривал (нравилось находить знакомые названия). А центральную «Правду» и областную газету раскрывать не было необходимости, поскольку отец громогласно излагал жене их содержание. Делал это он на искренних эмоциях, так что Эдька прекрасно знал, например, что в Болгарии осудили (а затем и казнили) очень важного высокопоставленного изменника Трайчо Костова.
– Предатели дела социализма! – гремел отец. – И ведь смотри, сколько нетвёрдых в убеждениях людей они сбили с пути! Как важна сейчас твёрдость в убеждениях!
– Ты прав, Митя. Ой, как ты прав!
Такие ежедневные (за исключением выходных) политбеседы были, очевидно, необходимы отцу, как репетиции для актёра или тренировки для спортсмена. Не зря он из года в год избирался партийным секретарём строительного подразделения прииска.
В этот день Эдька не стал дожидаться, когда отец после ужина возьмётся за газеты.
– Папа, давай поговорим?
– Давай, сын, – удивлённо посмотрел отец.
– Папа, наша страна ведь хорошая, да? В ней всё правильно, всё по справедливости, да? А вот смотри, что говорят… – и пересказал то, что так ошарашенно выслушал сегодня от Тимки.
– А кто так говорит?
– Да пацан, мы с ним на одной парте сидим. Тимкой звать.
– Знаешь что, ты с ним не сиди за одной партой.
– Да пожалуй что пересяду я от него, надоел он уже. Всё подкусывает, подкусывает…
Отец встал, походил по расстеленной, тканой вручную, дорожке, изделию его покойной матери. О чём-то сосредоточенно думал. Потом снова подсел к сыну.
– Ты, сын, один у нас мужчина-наследник. Лера – девочка, с неё что толку. А надежда наша вся на тебя, помни это и о нас подумывай иногда. Так вот – на чужой роток не накинешь платок. Людей разных очень много, и говорят разного очень много. Ты не старайся всё слышать, не надо. А свой рот поменьше открывай. Так оно лучше, понял? Надёжнее.
Встал, надел пиджак, вынул из кармана почти пустую пачку «Беломора», положил на шкаф (будет теперь заначкой на «чёрный день»). Из глубины шкафа достал новую, сунул в карман, поискал зажигалку, чиркнул – горит. Матери на её безмолвный – глазами – вопрос ответил:
– Парунов у меня что-то разболелся, отпустил я его сегодня, пойду проведаю – выйдет завтра, нет ли…
– Да не много ли ему чести, и сам может прислать кого, передать...
– Ладно, не твоё дело.
Он вышел, и за высоким забором из дома не было видно, что не повернул он в проулок, где была паруновская квартира, а пошёл в центр посёлка.
Наутро Эдька без обиняков заявил Тимке:
– Отсяду я от тебя. Надоел ты. Злой, как пёс.
Тимка ответил неожиданным экспромтом:
– Ля-ля-ля, тополя, ты со мной беседовай! Пересядешь от меня к Верке Переседовой!
Вера Переседова с соседнего ряда обернулась на них своими встревоженными смородинами глаз, но не была удостоена ни малейшим вниманием. Поняв, что упомянута совершенно без причины, успокоено отвернулась. А Тимка с какой-то гордостью констатировал:
– Никто со мной не усидит. Да и идёте вы все на х…, подлипалы…
А через неделю Тимка в школу не пришёл. Вера Александровна наказала Нонке Сурчиловой, жившей от Бедарёвых неподалёку, зайти к тем, узнать, что случилось. Та наутро сообщила:
– Дядю Митю забрали. Позавчера вечером забрали, а наутро вчера в район увезли. А Тимка как в тот вечер пошёл в милицию курева отцу унести, так и до сей поры где-то с большими пацанами болтается, домой и ночевать не ходит. Отца-то нет, а мать он не слушает…
Ближе к вечеру Вера Александровна пришла в поселковое отделение милиции. У капитана Перфильева сидел его подчинённый, старший сержант Пыхтунов. Взрослое население посёлка звало его между собой «сержант», игнорируя для краткости приставку «старший», а мелкота – «дядя Сеня Пыхтун». Видно было, что ничем серьёзным они не заняты, а просто ждут завершения очередного трудового дня. Узнав от учительницы, что её ученик Тима Бедарёв два дня уже не ходит в школу и не ночует дома, Перфильев задумчиво взглянул на «сержанта». Тот флегматично проронил:
– Он у Гошки Чун Хи.
– Точно? – глазами спросил Перфильев.
– Угу, – молча, чуть кивнув, подтвердил Пыхтунов.
– Ну, и что сидишь? – движением подбородка в сторону двери отдал распоряжение Перфильев.
Выйдя, Вера Александровна спросила Пыхтунова:
– А откуда вы знаете, Семён Никодимович?
– Поутру их вдвоём видел. Хлеб брали в магазине. Так что если не дома он ночевал, значит, у Гошки. Вот и весь дебют Рети.
Старший сержант был большим любителем шахмат, в поселковых соревнованиях постоянно занимал призовые места и имел дома целую полку шахматной литературы.
Гошин папа, китаец Чун Хи, появился в этих местах ещё в суровое довоенное время. Тогдашнему директору прииска с подходящей фамилией Золотов позвонили из районного отделения НКВД:
– Направляем к вам на временное поселение беглого китайца…
Через пару дней привезённый из района суетливый, какой-то испуганный китаец в кабинете директора в присутствии целого синклита управленцев, включая тогдашнего местного опера Шаронова, отвечал на вопросы.
– Ну, и откуда ты взялся?
– Тот берега большой речка, начальнигга (из-за Амура, значит).
– А зачем так далеко бежишь?
– Начальнигга, они меня найди – сразу контрами! – Чиркнув по горлу грязным ногтем своего большого пальца, перевёл непонятное слово.
– Чего ж ты такого натворил?
– Начальнигга, тебе не пойми, тама наш дела, начальнигга! Дай жить, начальнигга, работа дай!
– Ну, работу дам, чего уж, а работы у нас…
Так и появился, работать пристроили на конном дворе (чтобы всегда был под руками и присмотром), завёл заимку. Ухватистым оказался! Мигом перетаскал туда конский навоз, и ещё снег не сошёл, пошёл по улицам с воплями: «Люгга! Чеснога!». Поселковые хозяйки бегом выскакивали из дворов – когда ещё своя-то зелень появится! Первым же летом женился на Дуне – полурусской, полуорочёнке. Орочёны кочевали со своими оленьими стадами по северным окраинам области, по закрайкам местной выморочной тайги. Предписывалось официально звать их звенками, но не приживалось:
– Какие ещё эвенки? Орочёны они! «Окорок копчёный, с конца завороченный!».
Войдя в шибающий густым навозным духом двор заимки, Пыхтунов удовлетворённо сказал Вере Александровне:
– Ну вот же они! Дрова пилят.
Из дровяника слышалось детское, короткое ширканье пилы-двуручки.
– Получите, Вера Александровна, вашего Тиму. А я пойду со старшим Чун Хи побеседую.
Беседовать им было о чем. Не всё у Чун Хи росло в заимке – были у него и делянки мака в потаённых лесных местах, с которых он снимал запретный урожай «плана» – опия-сырца. В довоенное-то время никто на это не обращал внимания, и прятать эти делянки где-то в тайге не имело смысла, ну а в последние годы милицию на этот счёт «ориентировали». И находя их, Пыхтунов добросовестно всё выдирал и вытаптывал. В район всё это не сообщалось – зачем начальство беспокоить, себе дороже обойдётся. А в журнал профилактической работы – это с «нашим удовольствием».
Вера Александровна, приобняв Тимку, ласково шелестела:
– Тимоня, зачем ты маму обижаешь? Ты подумай, как ей сейчас трудно – без мужа осталась! А ты, единственный мужчина, бросил её! Ты же сильный парень, поддержи её. И всё ещё совсем небезнадёжно, никакой вины на твоём папе нет, я уверена! Разберутся, отпустят его.
Теплело на душе у Тимки.
– Ну что, домой идёшь, Тимоня?
– Домой иду, Вера Александровна.
Тимка вернулся в школу. Привычно молчал в своём углу. Когда Вера Александровна поднимала его к ответу, равнодушно наговаривал на свою законную тройку и вновь садился молчать. Но однажды на большой перемене вдруг стал плечами в плечи, лицом в лицо:
– А ты не думай! Вы все тоже горя хапнете! По ноздри! Бог-то есть, он всем воздаёт!
Так же, не поднимая рук, Эдька плечами оттолкнулся от него, почти с отчаянием подумал: «Ну что вот за человек! У него беда – так на всех надо кидаться! Я-то что ему сделал?».
А ещё через пару недель Бедарёв-старший вернулся домой. Сходу вынул из пиджачного кармана бутылку водки-«сучка», жёстким ногтем сковырнул сургуч, шлепком по дну высадил пробку. Молча указал жене на стол – дескать, закуски сюда. Налил в гранёный стакан под самый верх, только чтоб не расплескать. Одним глотком отпил половину, закусил. Подобрел лицом, откинулся на стуле, прикрывая глаза, заговорил негромко, как бы сам с собой.
– Они там из блохи голенище кроили, не получалось; меня позвали. А и со мной не получилось. И так, и сяк вертели – ну никак, и всё. Ну, и погнали на х…
Выкурил папиросу, допил водку из стакана. Продолжил:
– На последний допрос большой чин пришёл. Посидел молчком, послушал, да и говорит – гони, мол, этого дармоеда… Не, ты поняла – я им дармоед. А они там упахались, уработались, ажно исхудали – щёки на погонах лежат…
Наливал ещё, выпивал, курил, снова выпивал.
– А наутро на эродром привезли к первому же самолёту. Посадили, отправили. Вне всякой очереди, никто и не вякнул… Во почёт! И хоть бы корку хлеба дали – ништяк, говорят, дома пожрёшь…
– На водку-то где денег взял?
– Нигде. Тося в долг дала. Узрила меня – глаза навыкат, как с того света я ей…
Допил водку, вопросительно глянул на супругу. Та без слов сходила в чулан, выставила на стол бражку.
– Ага. В аккурат же в тот вечер, ты ток поставила да убрала её, тут и они на порог… Ну-ка, ну-ка… Ох, крепка! Подошла… А я ж тамотка вспоминал, думаю – кто ж её без меня допьёт…
Прижалась Груня Бедарёва горячим своим боком к плечу мужа, обняв, запустила руку в поседевшие его свалявшиеся патлы:
– Никто, Митенька, золотой ты мой, без тебя не допьёт. Не Тимке ж, сопляку, её пить…
Перехватило дыхание у Дмитрия. Выдохнул:
– Ух ты, Груня-игруня…
Не без усилия подхватил её – дебелую, враз обмякшую, поднял, откинул ногой упавший стул, невнятно, ласково урча, понёс за занавеску…
Через десять лет в конце августа торопящийся после своей летней практики на недолгие каникулы в гости к родителям студент-журналист Эдуард Шарманов, подъехавший на автобусе к районному аэропорту, встретил на крыльце знакомые (сразу узнал, будто вчера лишь виделись) глаза-смородины.
– Эдька! – радостно взвизгнула Верочка Переседова.
– Веруня! Ты чего здесь? И куда?
– А мы с мужем – да вот он! – пересадку делаем. Летим в гости, по моей родне прокатимся.
В дверях аэропорта нарисовался Гошка Чунхин, одаривший Эдьку удивлённым взглядом таких же, как у молодой супруги, черносмородиновых глаз. И, хотя в школе они почти не здоровались, тут радостно ухватили друг друга за руки.
И вот что из поселковых новостей различной давности порассказал Георгий Эдуарду. Он, Гошка Чун Хи, окончил семь классов вечерней школы как раз к моменту своего призыва в армию. Там «со свежей башкой» сразу попал в сержантскую школу. Отслужил, вышел «с широкой лыкой» – в звании старшего сержанта. На прииске глянулся, поставили старшим пожарного расчёта.
«Дядя Сеня Пыхтун» дослужился до пенсии, погоны теперь не носит, ходит в штатском, ведёт в школе шахматный кружок, ребята делают успехи, в районе заметны. Заходит в гости к старому Чун Хи поиграть с ним в китайские карты (такие узкие и длинные, с джонками и драконами, Эдька однажды видел такие у другого своего знакомого китайца).
Дилен тянет свой срок (тут Эдька всю предысторию знал. Владилен Сукачёв поступил в престижный юридический институт – помогли его спортивные успехи в боксе и реанимированные старые связи отца. Влез в круг золотой молодёжи. Но когда вся эта золотая компашка влипла в криминальную историю, «сынки» отмазались, а фанфаронистый Дилен «пошёл паровозом» – оказался главным обвиняемым и «схватил пятерик»).
Бедарёвы уже четыре года как переселились в Завидную, где их Егор, машинист паровоза, получил квартиру. Тимка сразу же был призван, причём в морфлот, причём в подводники, после первых двух лет службы приходил в отпуск, причём со значком «За дальний поход», у моряков такой знак приравнивается к медали. А из второго такого похода не вернулся, и, как объяснили родителям военкоматские, всё это случилось за пределами страны, и предать его родной земле нет возможности. А что именно случилось – про это никому знать не положено.
Ударило Эдьку куда-то в спину, под левую лопатку, тяжело дышать стало. Не брат и не друг был ему Тимка Бедарёв, приятных воспоминаний о себе не оставил. А вот упало чувство неизбывной вины, непонятное такое. Всегда горько, когда гибнет человек, да и молодой к тому же. Но тут что-то другое было… «Да что такое? Я что ему сделал? Я – при чём тут?». Вопросы, вопросы… А ответов – не было.




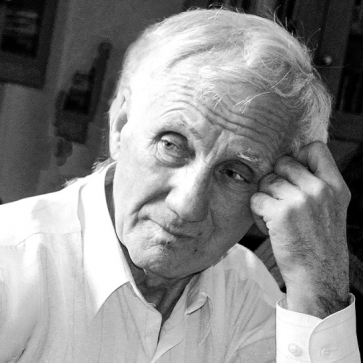
 Евгений ТРУБНИКОВ
Евгений ТРУБНИКОВ 


Это звоночек из нашей советской истории. Автору - спасибо.