Михаил ТАРКОВСКИЙ
ФАРТ
Рождественская повесть
Напильники
Из-за стола поднялся длиннолицый, похожий на ящера человек очень прямой осанки. Длинный выгнутый нос, небольшая, тоже длинная, коротко стриженая голова. Жилистая шея, переходящая в затылок и череп в одну линию. Очень живая, извивающаяся, она длинно торчала из ворота, как из норы, и словно хотела вылезти, а её изнутри кто-то осаживал, дёргал, а она оборачивалась огрызнуться.
– Здравствуйте, Валерий Ирари… – сбился Баскаков и протянул книгу: – Это вам, подписанная!
– Ил-ларионович, – зычно, напористо-чётко и как-то уставно́ поправил Илларионыч и без паузы резанул: – Ну что у вас?
Протянутую книгу он, кивнув, бросил в ящик стола, как в лоток, и громко задвинул.
Баскаков, заражаясь скоростью, изложил дело.
– Да, базы объединили, не один вы погорели. Регламент, правда, обжаловали… Но на это рассчитывать… – покачал головой Илларионыч. – В общем, скажу так: бесполезное дело. Можно ехать на Владивостокскую таможню и искать концы… Но это всё деньги. И время ваше…
– Да то на то и выйдет.
– Дак в том-то и дело! – радостно подхватил Илларионыч и закруглил: – Мой совет – продавать.
И вдруг возмущённо сыграл шеей:
– Только пэтээс не отдавайте ни в коем случае. Будут просить – ни под каким видом! Удачи!
Баскаков всё давно решил, а к Илларионычу сходил больше для проформы и чтобы не обидеть знакомого, устроившего встречу. Таких Илларионычей он за год навидался. Сейчас начиналось главное…
В назначенный час приехал Анатолий. Подошёл вразвалочку, полноватый, губастый до какой-то рублености – губы как кубы, с гранями. Слова выговаривал с особой спокойностью, как-то олепляя губами согласные «б», «п» и «ль».
– Ребята щас подъедут, – и глянув в телефон, брякнул буквой «б»: – Хе, зара-бо-тались.
Будто в уплату за их опоздание начал неторопливо рассказывать, куда ездил, что пытался купить и как всё дорого. Рассказывал больше для себя, чем для собеседника.
– У нас в городе хрен поймёшь. Едешь по Гоголя – одна сантехника. По Луначарского – одни мойки. Скоро все заправки на одной улице соберут, – он, видимо, чувствовал здесь зубоскальскую основу, но чего-то не хватало. И вынужденно сказал: – Бензин до того левый…
– Не знаю. Я на КНП заправляюсь, – чтоб не молчать, пожал плечами Баскаков.
– А чо за КНП? – вдруг заинтересовался Толя.
– Красноярскнефтепродукт.
– А-а-а… – он воодушевился. – Тогда понятно. Хе, короче, тут у нас на Щорса эти сидят… Синяки… Бензин стреляют и нюхают. А я стою на заправке, слышу такой базар: «Чо, Борода, ты на чём сидишь нынче?» – «Я на Сургутнефтегазе…». «А я на Сибирской Сырьевой». А один обморок, бритый, не оброс ещё, весь в портачках, токо освободился… – «ос-во-бо-дил-ся» Толя медленно и подробно произнёс, особенно обработав, обубнив губами, так что «б» копилось и потом облегчённо срывалось. – Уже сидит торчёный. «Вы чо, уроды, тут гоните, меня слушайте, я всё пере-про-бовал, даже Бритиш Петролеум, х-ха, и я так скажу: та ещё брага, и Сибнефть – сивуха, Новосибирскнефтегаз – вообще бурдымага, и Альянс, и Роснефть – ничего не канает. Только КНП! КНП это да! Это тема!» – и поднял палец. – Ха-ха! От чёрти! – Толя не спеша, в разбежечку, смеялся. – Я бы тому, кто КНП рулит, такой ролик бы подогнал. Ха-ха-а. Вы там спросите у своих. Может выход есть? Ха-ха. А я всё думаю: чо за КНП? Это же не наша, Красноярская… Па-ня-я-ятно.
Наконец подъехали двое. Анатолий изо всех сил показывал, что он сам по себе, а они сами. Баскаков негромко поинтересовался, как они погонят машину без документов, а Толя бросил небрежно:
– Д-да! – И добавил с оттенком одновременного и отстранения, и пренебрежения, и восхищения: – Эти безбашенные разберутся!
Безбашенных звали Серёга и Валера, и они были как пара сказочных механиков, каких-нибудь Болтиков-Напильников. Небольшие, сухие, с рельефными лицами – серые, не то в щетине, не то в металлической пыли. На жуликов не походили, а скорее напоминали инженерных студентов, проходящих практику в заваленном металлом цеху, где с потолка сыплются железные опилки. Спорые, слаженные, нацеленные. И одновременно какие-то предельно изношенные.
Баскаков завёл машину. Открыл капот.
– Так, так, так… – вязко заметались Напильники. – Где от закрылков половинки? Чо, накладки на педаль нет? Так, а туманка? Серый, чо там вторая туманка? Целая? Где? В этой коробке? Ага, вот она…
– Парни, короче, магнитофон отдельно пять тыщ, – веско сказал Баскаков. – Я специально не стал вынимать.
– А может, отдадите? А?
– Нет, двести сорок пять. С магнитофоном.
– Ну, может, двести сорок? С мафоном?
Упёрлись в магнитофон и в двести сорок, будто припирает стена или на билет не хватает. Баскаков, чтобы не сбиться с главного, уступил.
Толя был полуотдельно, полурядом. Привалившись к верстаку, копался в телефоне.
– Так… – подводя итог, быстро проговорил Валера-Серёжа. – Анатолий не говорил, нам пэтээс нужен?
– Как пэтээс?
– Пэтээс нужен, – вторил, не отрываясь от телефона, Толя.
– Так. Погодите… – Баскаков чувствовал, будто под ним лестница пошатнулась и пошла в сторону. – Э, парни. Я раз нагрелся и хорош. Мне вообще никак. Я и так теряю половину. И в пэтээсе стою, фамилия моя. Не… – отрезал Баскаков.
Происходило именно то, чего он опасался. И совсем не с той стороны, откуда ждал. Он зашагал по гаражу. Зазвонил телефон. Звонила мать его друга Серёжи Шебалина, которого все с детства звали Ёжиком:
– Игорёк, – пела-плакала она голосом, бессильно разбухшим, размокшим от слёз, – я очень расстроена, может хоть ты поможешь? Надо что-то делать с Серёжей. Он не просыхает… Я не сплю с трёх ночи. Это страшно! Я во сне видела, как его уволакивают, просто уволакивают маленькие, чёрные такие люди… правда… они по пояс ему, Серёже, и они его волокут, а он цепляется за мебель, за косяки… Ты не поверишь… ты знаешь, как я ко всякой мистике отношусь, я преподаватель… но тут всё по правде, поверь мне… – Она совсем заплакала: – Вы же друзья… были… Он цепляется, и они его уволакивают, и он оборачивается, а у него… Игорёчек… у него зрачки зелёным горят, Игорёчек, и такие… ну… вертикальные, как у кошек, не могу-не-могу-не-могу… помоги, пожалуйста, не могу… это не придумаешь… это видеть надо… ааааа...
– Милая моя, миленькая, пожалуйста, успокойтесь… Лидия Григорьевна… Пожалуйста, я вам попозже перезвоню… Молитесь за него…
– Да молюсь, как могу, я же не молилась… а теперь молюсь… Всё, Игорёк… Позвони, пожалуйста, как освободишься.
Баскаков, побледневший, уничтоженный, возвращался к разговору.
– Да вы не волнуйтесь… – наседали ребята.
– Да чо не волнуйтесь?! Не, ребят… Какой пэтээс!? – говорил Баскаков, изо всех сил пытаясь собраться.
Напильники наседали наперебой:
– Да вы поймите, сейчас регламент будут обжаловать…
– Да погоди ты, Серый, с регламентом, – фыркнул Валера и другим голосом обратился к Анатолию: – А мы можем, Толь, расторгнуть договор купли-продажи?
– Да как мы расторгнем, – возмутился Баскаков, – если тот хмырюга в Уссурийске, и у меня даже его телефона нет? Не-е… обождите, мужики. Мужики, короче…
Зазвонил телефон:
– Игорь, Пете позвони, – сказала Лена, – по-моему, он не знает, что снимать можно только по пятьдесят тысяч. И ты не забыл, что нам на исповедь послезавтра?
– Да не забыл, не забыл! Всё. Пока, – отвечал с раздражением Баскаков.
– Свинюга, – попрощалась Лена.
Пока с ней говорил, слышал, как поверх разговора лёг гудочек. Прорывался-звонил как раз Петро:
– Михалыч, здоровеньки! Как вы там, зимогоры, не вымерзли ещё? Да-а, морозцы-то придавили. Слушай-ка, тут такое дело. Плохо, когда ни в зуб ногой в житейских делах. Короче говоря, я договорился снять всю сумму…
– Ну и снимай, в чём проблема-то? – нетерпеливо перебил Баскаков, зная витиеватость и обстоятельную многословность Пети.
– Да ты почему такой торопыга-то? Всё бегом, бегом… Дай обскажу. У меня же, я вспомнил, срочный вклад какой-то… – «какой-то» он произнёс с брезгливинкой. – Если я снимаю, то у меня проценты сгорают… Но я всё равно снял. Уже снял… Хе-хе… Выручать-то надо классика, а как же…
– Да ты чо! Спасибо, Петро. Я щас занят. Позвоню вечерком.
– А ты слыхал, что Куперман большую премию взял?
– Да пошёл он. Иннокентич вон медведя взял. Я перезвоню… Парни, я не хочу второй раз влететь… – начал снова Баскаков.
– Не, Игорь. Подождите. Давайте так… – прикрывая глаза, говорил Серёжа или Валера, Баскаков уже не понимал. – Мы сейчас вам объясним.
Анатолий захлопнул телефон, спрыгнул с верстака и вразвалочку подошёл к Игорю:
– Вот смотрите, – заговорил он на тон спокойней стоявшего гвалта, сдержанно ощупывая слова своими гранёными губами, – люди забирают у вас авто-мо-биль и дальше он будет готовиться к продаже. Без документов всё это теряет смысл. Это как человек без паспорта. Вы сами уже с этим столкнулись…
Зазвонил телефон, который Баскаков не отключал, ожидая очень важного звонка:
– Игорь Михайлович? – раздался твёрдый и чуть надтреснутый, подрагивающий голос – есть у пожилых людей такие глухо-высокие голоса. «Ч» звучало по-западному, будто пародировали белорусских чиновников.
– Да, я. Говорите… – резко ответил Баскаков.
– У меня к вам как к редактору альманаха адресное предложение. Адресное! – налёг голос на словцо.
– Давайте после праздников, мне не с руки сейчас. А откуда у вас мой телефон?
Звонящий будто не слышал:
– Это очень важно и вы сейчас поймёте, – в слове «очень» снова зазвучало мягкое «тчэ» с сильным придыханием. – Вы петчётесь о русском языке, – голос был очень настойчивый и Баскакову мгновенно представился рослый с костистым крепким черепом дед из тех, что на мероприятиях хулигански рвутся к микрофону, потрясая своими книгами. – И я как почтительный книготчэй внимательно тчытаю все ваши статьи. Я хотчу передать вам для петчати свою работу. Люди отчэнь бестчувственные – им тытчэшь пальцем, тытчэшь, но они не слышат. Так вот, мою работу… Там рассказывается, как вывести язык из-под удара. Поскольку тчысло семь является сакральным, – звонящий говорил о своём труде, как некоем бесспорном и независимом от него самого факте, и Баскаков уже догадался, в чём дело, – предлагается сократить колитчество букв до семи, но ввести в алфавит дополнительное катчэство: цвет. Каждая буква может иметь один из семи цветоу… Таким образом, если помножить тчысло оставшихся букв на колитчыство цветоу…
– Извините! Я не могу говорить, – прервал монолог Баскаков. Его уже потряхивало.
Анатолий продолжил:
– Ребята сейчас попробуют решить всё… в обоюдных интересах… и вас ос-во-бо-дить от возможных неприятностей… – «авто-мо-биль» и «ос-во-бо-дить» он произнёс безо всякого усилия, словно его губы сами свободно повторили, побрякивая, неровности согласных.
Раздался звонок, Анатолий, раздражённо покачал головой и переглянулся с Напильниками. Баскаков не видел без очков номера:
– И утчытывая тчаяния книготчээу…
– Слушайте внимательно! – закричал Баскаков. – У меня к вам адресное предложенье: три буквы, но в цвете и звуке! Трудитесь. Вам позвонят.
Баскакова подлихораживало. Дело, глыбиной давившее целый год, навалилось и грозило привалить, если он споткнётся об этот пэтээс, и уже сминалась Илларионычева инструкция: похоже, на неё предстояло плюнуть.
Зазвонил телефон. Анатолий возмутился:
– Да выключите вы его!
Звонил наконец Артём.
– Нас на связи не было, – говорил он негромко и приторможенно. – Да, идёт машина. У них там одна улетела с дороги, скользко. Звоните. Нет. Сегодня не будет, – рассказывал Артём варёно, будто одновременно рассматривая что-то невразумительное. – Комплектация у вас нормальная. С люком. Салон велюр. Звоните завтра.
Баскаков медленно опустил руку с телефоном:
– Ну, давайте, ладно. Только я не понимаю…
– Короче, делаем расторжение договора, – говорил Валера. – Это тысячи полторы. И снимаем с вас всю эту проблему. Вы уже не хозяин будете.
– Уже это не ваш головняк будет. А того человека, который купит, – вставил Серёжа, желая окончательно успокоить Баскакова, – и который столкнётся с той же проблемой, – как кувалдой добил Баскакова Серёжа, тоже считая, что успокаивает. – Поэтому мы хотим вас обезопасить.
– Так, Серый, Жанка сможет нам расторжение сделать? Давай тогда на рынок едем. Жанка до скольки работает? Звони ей!
Ещё минуту назад ни о ком, «кто купит», и речи не было. Баскаков чувствовал, как, не успев появиться, меркнет световым пятном внезапный человек, который столкнётся с этим гиблым пэтээсом, и что он допускает это. Сдаётся, признаёт силу обстояний. Лестница кренилась и почти разваливалась на ступеньки, и он уже собрался выключить телефон, как позвонила Галька Подчасова:
– Игорёк! Ты можешь приехать!!! У меня авария!
– Что такое?
– Машина на автопрогреве стояла и поехала, всех тут смяла! – почти срываясь на крик, она пыталась рассказать подробности.
– Подожди! Как поехала?
– Не знаю… – зарыдала Галя. – Наверное, я на скорости оставила…
– Жди, приеду, – Баскаков еле выдохнул. – От… ёхарный пуп…
– Чо там? – обеспокоенно спросили Напильники.
– На прогрев поставила на скорости. В «финик» впоролась.
– Жена? – ещё более насторожились ребята.
– Подруга жены…
Напильники наконец пробились к Жанке, у которой долго было занято:
– Жан, ты сделаешь нам расторжение договора купли-продажи? Поняли. Да. С пэтээсом. Паспорт надо? Ясно. А щас скоко? Тогда завтра с утра.
Пауза.
– Короче… Договор купли продажи расторгаем. Прямо на пэтээсе пишем, что расторгнут. С печатью. Да. Смотрите, – особенно строго сказал Серёжа-Валера, – если придут там из милиции – скажете, что приезжал этот… олень с Уссурийска….
– Да как он так приезжал? – возмутился Баскаков.
– Скажете, – подключился Анатолий, – приезжал пред-ста-ви-тель с Уссурийска, вернул деньги, забрал авто-мо-биль. Всё, – сказал он недовольно и взгромоздился на верстак.
– Да. Приезжал по делам, – сказали Напильники. – Встретились. Всё порешали миром. Спросят, когда – скажете: «Не помню, закрутился».
– Да никто не спросит, – пробурчал Анатолий, не отрываясь от телефона.
– Чо, завтра тогда к десяти на рынок, – полуспросил, полуутвердил Серёжа-Валера и, глянув на Баскакова, успокоенно кивнул и подытожил: – Тогда чо? Советуйтесь с юристом. И звоните сразу.
– Да всё нормально будет, – буркнул Толя.
На том и расстались.
Баскаков позвонил юристу. Тот куда-то ехал. Баскаков рассказал обстановку и спросил, как действовать.
– Нормальная практика. Если кто-то будет докапываться, участковый там или следователь, – говорите, что приезжал человек, вернул деньги.
– А спросят – когда?
– Да давно было. Вы чо, помнить должны? Зимой приезжал под праздники. Вроде. Забыл точно когда. Созвонились – встретились, отдал деньги и всё.
– А если телефон его спросят?
– Да какой телефон? Потерял. Делся куда-то! – возмущённо крикнул юрист сквозь шум дороги: – Да! Только обязательно… Куда, колхоз, лезешь! Только… слышите меня? Алё! Обязательно возьмите копию чего там… расторжения и пэтээски. Обязательно. В случае чего покажете – вот. Я не хозяин. Всё. Какие вопросы? – и протянул, успокаиваясь: – Дава-а-йте…
Страшно хотелось пить. Баскаков зашёл в кафешку и, заказав чайничек чаю, с облегчением бросил телефон на стол. Он продолжал лежать, излучая опасность, как шоколадка широкий, с гладким бескнопочным экраном.
Леночка подарила его Баскакову около года назад, но он так и не привык к его ненормальной чуткости. Как осторожно не ухвати, начинал мигать, переворачивать картинку, включать камеру и даже в ней умудрялся перейти на режим самосъёмки, так что Баскаков вместо номера Лены видел своё лицо, искажённое объективом и досадой.
Лена была в текущих веяниях: считалось дурным тоном звонить друг другу, а хорошим – без остановки переписываться, дескать, невежливо, человек занят или задумался, а тут звонят.
Чтобы ответить на письмо, надо было нашарить в телефоне некую область, где мельчайше вскакивала клавиатурка с буковками, половину которой Баскаков накрывал пальцем. В расчёте на это агрегат был обучен способности предугадывать и даже подправлять неправильно натыкиваемые слова. Предлагал варианты, исходя из своего уровня развития и, как говаривал Баскаков, «мировоззренческих приоритетов». И представлял заточённую в телефон и утянутую в чёрное недалёкую девицу, науськанную на навязчивую подмогу. Звали её Нинкой.
Бывало, едет он с писателями выступать по библиотекам, сам, как обычно, на своей машине и за рулём. Вдруг по-чаечьи вскрикивает телефон, и Баскаков умудряется его ухватить и увидеть Леночкин вопрос: «Какой следующий пункт?».
Он начинает натыкивать «Пих… тов… ка». Телефонная Нинель бросается на выручку: недописанная Пихтовка тут же превращается в «психов», а потом в «рихтовку». Или едут из Иркутска, Баскаков натопчет наощупь: «Прошли Канск», а Лена получает: «Пришли скан» и вскипает…
Девушка иногда правила бездумно, а иногда курьими мозгами пыталась обобщить предпочтения, но, бывало, обнаруживала и суть: переправила Чебулу в «чепуху», и вдруг отважилась, вывезя: «чо бухой?», а потом спохватилась: «Сеул».
Уже несли чайничек, как вдруг пискнула Нинка. Писал Ёжик:
«Знаешь, Игоряша, пошёл ты на … из моей жизни со своей моралью, своими попами, и правильными базарами. Пошёл навсегда и окончательно…».
Баскаков медленно допил чай, съездил успокоить Подчасову и, вернувшись в Тузлуки, рухнул без задних ног. Проснулся по обыкновению в шестом часу. Было третье января.
Грязью замазал
– Я ещё посплю… – тихо и полувопросительно проговорила Леночка и, отвернувшись к стене, добавила: – Ты придумал, что детям девятого числа скажешь?
Баскаков на минутку прилёг-пробрался к ней, чуть не придавив коленом чёрно-блестящий экранчик, в котором Лена успела что-то успокоительное нащупать, не разлепляя глаз. Там стояла теперь синяя картинка, которая глупо перевернулась, увидя сбоку подвалившегося Баскакова.
Он подошёл к чёрному окну. Оно было нового, неиндевеющего образца, и округе гляделось в него стерильно, оголённо и как-то пристально. «Первый раз, что ль», – подумал Баскаков в ответ на Леночкины слова. Девятого января ему предстояло выступить перед школьниками на Рождественских чтениях.
На градуснике было под сорок. Он приблизил лицо к стеклу: темно, только звезда еле шевельнулась в мёрзлом воздухе, и показалось – вот-вот замрёт, завязнув, не провернув мерцающего зеркальца. Он вышел в коридор, бурая в рябь железная дверь с заиндевевшими, ворсисто-белыми болтами выпустила его во двор. Прошёл к гаражу, завёл Ленину машинку. На обратном пути гребанул горсть снега и умылся до скрипа, до перехвата дыхания. Влажная рука магнитно прилипла к дверной ручке. С чайной кружкой снова застыл у окна.
Морозно-рассеянным светом розовел восход и сизо стелилась понизу долина Чауса. Вдали за незримой Обью еле различимо дымил трубами Новосибирск. Клубы эти Баскаков хорошо знал. Если к ним подъехать, они восставали громадно и нависали гигантскими монументальными формами, освещёнными рыжеватым солнцем. От их каменной недвижности охватывало задумчивостью, какой-то зимней углублённостью и ощущением, что можно наконец разглядеть время в упор. Что время это больше не сносит течением, и его судьба на твоих плечах.
Пора было в дорогу. Выехал за ворота, и когда пробрался на трассу через Тузлуки, густо и медленно заполняющиеся дымками, то с нарастанием скорости стало расправляться, разрежаться всё, что слежалось за ночь и казалось таким давяще-плотным и неразрешимым.
Год назад Баскаков нескладно совместил два дела: поездку в Уссурийск по приглашению филологов из пединститута и покупку машины на знаменитом Уссурийском авторынке. Ещё дома Серёжа Шебалин дал в подмогу телефон Ивана из Находки, который как раз гостил в Уссурийске. Дальнейшее Баскаков записал так:
«Океанским чем-то повеяло от Ивана, когда он подкатил на яхтово-белом «сафаре» с тигром на запаске и вышел в спортивную развалочку, рослый и очень загорелый, несмотря на зимнюю пору. Ваня лицом походил на чайку, или даже на олушу – есть такая морская птица. Треугольное на клин лицо, узкий длинный нос с горбинкой, внимательные, холодные глаза в тёмных ресницах и бровях. При этом волосы крайне светлые и квадратно подстриженные в плоскость. Боковыми гранями они сходили к вискам, так что причёска походила на кивер. Волосы слегка вились, и крышка кивера была будто с игрой – под карельскую берёзу, только светлую.
Для начала он забраковал те машины, которые я выбрал из-за нехватки денег, а потом, когда я нашёл нечто приемлемое, – приехал на окончательные смотрины. Машина стояла не на рынке, а во дворе каких-то складов. «Продаван» Вова в отличие от Ивана был очень обычной, привычно-трудовой внешности.
В Приморье стояло тепло, и Ваня вышел из машины без шапки в тёмном с отливом костюме. Ладонью с силой надавил на передок машины и покачал – по очереди с каждой стороны. В несколько эффектнейших движений-прыжков, с изгибом корпуса, прищуром и замиранием у прицельной линии кузова, как у орудия, он некоторое время проверял машину на битость-небитость. Линий прицеливания было несколько и у каждой он, сменив позицию, замирал, выцеливаясь, и исполнял целый танец, будто был ледовый фигурист. Меня просто заворожили эти упражнения.
Заглянув под капот и проведя пальцем, бросил: «помпа сопливит». Велел завести и, послушав, сказал, что «шьют бронепровода», на что Вова только полуснисходительно, полупрезрительно улыбнулся и пожал плечами, переглянувшись со мной. Ваня взялся за салон. Нагнулся и кропотливо, не боясь испачкать костюм, облазил нутро.
– А чо накладки нет? – ткнул он на площадку возле педали тормоза, там не было резинки и тускло блестел потёртый металл. Нашёл несколько прокуров, царапин и пятно на сиденье. Глянул документ, и вернул, ничего не сказав. Потом предложил сбросить цену, намекнув, что мол, «если чо, ты смотри», и хохотнул, ослепительно сверкнув зубами и тоже со мной переглянувшись...
Цену Вова не сбавил. На вопрос, почему продаёт, ответил, что машина отцова, но что тот мужик крупный и «взял крузака». Ваня пожал плечами, мол, если решено брать дрова, то он бессилен. И уже собрался ехать, но я спросил, как доставать запаску, крепившуюся из-под низу.
– Да просто, – бесцветно подал голос Вова. – Здесь лючок над бампером. Туда крючок от домкрата суёшь и крутишь.
Иван, не замечая Вовы, сказал:
– Запаска снизу – самая беспонтовая приблуда. В грязи или снегу задолбаешься её снимать. – И кивнул на «сафаря»: – То ли дело – на калиточке!
И неторопливо улыбнулся:
– Поехали с парнями на охоту и взяли здоровенного секача…
Он сосредоточенно прикинул-обозначил размеры, будто тоже только входил в картину и недоумевал вместе со всеми:
– Вот как до колеса. Здэ-р-ровый… – продолжал Ваня, раскатисто пересыпая матерком. – Клычины с палец… от трактора. Короче, пока в деревню за мешками ездили, матрас пришёл на убоище. А я как раз задом сдаю. Тут он ка-ак выскочит из чапыжника и на запаску! Она ещё с оленем была, ха-ха! – Ваня, оглядывая всех, ярчайше улыбался: – Он её дерёт, клочья только летят! И ворчит ещё! Молодой котяра, борзой! Пока он её пластает, я эскаэс хватаю – и клац его меж глаз с полуоболочки! – Ваня сиял: – А не запаска – так и ушёл бы! В дубняки. Хе-хе… Стекло, правда, поменял заднее, не ездить же с пулевыми. Ха-ха! Люди не поймут! Х-хе! И чехол новый поставил. А ты говоришь – снизу…
Я отработал для успокоения ещё пару машин и позвонил Вове, что беру. «Ну отлично», – не ломая ваньку, весело ответил Вова. Всё быстро оформили, и я отрапортовал Лене: «Серебро, бензин, только запаска снизу и без люка, поздравляй». В Нинкиной редакции это выглядело: «Ребро, бензин, только запуск снизу, злюка, поздравляй».
Подъехал Иван и подарил автомобильный магнитофон с экраном, а на вопрос о расчёте хохотнул:
– Да какие деньги! Это так… два раза моего крокодила заправить, – и кивнул на белого «сафаря». – Считай – подарок от приморских ребят. Давай, счастливо!
Улыбнулся белоснежно, глянул в сторону бензобака: «Всегда под жвак!», и, рокотнув шестицилиндровым вихрекамерным дизелем, унёсся с истинно приморским шиком...
К Тузлукам подъезжал ночью, и шесть тысяч вёрст так напирали в спину, что городок промелькнул непривычно быстро. Родной облик огней, заснеженные улички с фигурными надувами на крышах казались по-детски маленькими, требовали всматривания и тихого шага, домашнего дыхания.
Леночка, чудо моё, в накинутой куртке и тёплых калошках стояла в гараже, завороженно глядя на машину. Морозная, та тускло серебрилась сквозь дальневосточную и забайкальскую грязь, сквозь ледяную глазурь и узорную изморозь.
– Большая машинюка…
– Сколько завтра? – спросил про температуру.
– Ой. А я и не знаю… – отвечала расслабленно Леночка.
В дороге следил за погодой, и даже ночью оставался напряжённо вживлённым в неё, как датчик, – что ждёт: мороз ли, потребующий ночных прогревов, снег и тепло, грозящие кашей и докупкой омывателя? Теперь и небо, и выстужающая сизота как-то отошли, и жаль было этой отставной погоды и дорожного собранного строя. И пока не ушла сила пройденных вёрст, хотелось довести до конца – поставить машину на учёт. С утра рванул в город».
Уже стояли на площадке с открытыми капотами, как вдруг Баскакова вызвали по громкоговорителю. В окне раздражённо-сосредоточенный офицер сказал, что у Баскакова «большие проблемы с документами» и спросив: «Сколько денег отдали?», покачал головой.
После резкого повышения пошлин люди стали возить машины в разобранном виде и оформлять на документы от старого или битого автомобиля. Образовался спрос на документы, их стали плодить в виде дубликатов, выписанных взамен якобы утерянных. На одну автомобильную душу оказывалось оформлено сразу несколько машин. Для борьбы с таким широкодушьем объединили базы регионов и много народу пострадало. Ни поставить, ни снять с учёта подобную машину стало нельзя. Находкинский Ваня, увлёкшись «ходовочкой» и «калиточкой», документы проморгал.
Баскаковская машина была оформлена как раз на дубликат такого пэтээса, выданного «взамен утерянного» в Усолье Иркутской области, где автодуше было отказано в регистрации. До выяснения причины Баскакову разрешалось на машине ездить, продлевать каждый месяц транзиты и по всем вопросам обращаться в межрайонное отделение государственной автоинспекции. К беленькой, необыкновенно хрупкой девушке – Вере Лихтенвальд, в серой юбочке и кительке, в бирюзовых в толстую полоску рейтузах и сапогах, которые сидели на её тонких ногах, как краги – настолько их стенки казались толстыми, твёрдыми. Колечко на тонком пальце тоже было будто велико. Баскаков уже её называл Верочка и дарил книжки. Хрупкий Верочкин вид никак не вязался с теми сталистыми вещами, которые через неё решались, с судьбами, которые корёжились от неприятностей и как-то особенно, казалось, зависели от контраста между её видом и значением.
Через четыре месяца пришёл ответ, что машине, на чьи документы был оформлен его автомобиль, было отказано в регистрации, по причине, «наличия сведений о представленных документах в числе утраченных или похищенных».
– Да нет, – твёрдо говорила Верочка, – какой новый пэтээс? Пэтээс только один. Это как паспорт – там ваша фамилия, дата рождения. Без него вы не гражданин.
– Ну почему? Паспорта как раз меняют и фамилии… Вера Адольфовна, а ведь тот владелец наверняка с каким-нибудь гаишником этот дубликат… сплодил. Если в Усолье копнуть?
– Игорь Михалыч, – Верочка твёрдо положила тонкую ручку на стопку папок, – на это годы уйдут, я вас уверяю. Да и никто не будет заниматься. Вот есть ответ… – она взяла в руку бумагу. – И никуда не прыгнешь. Машинка ваша как транспортное средство… – Верочка развела руками, – больше не существует. Никто, конечно, у вас её не заберёт. Но ездить на ней вы не можете. – И добавила неофициально, сжалившись: – Если только на севере в тайге где-нибудь... Где милиции нет.
Машину Баскаков поставил в ведомственный гараж к знакомому. Ездил на Лениной машинке, много писал и работал, а к зиме серьёзно озаботился продажей. Решение постепенно назревало – сначала казалось диким, потом притиралось к сердцу, а потом уже ярко и победно заманило освобождением. Настала новая полоса. Если в «эру транзитов» силы шли на поиски милицейских знакомых, то теперь Баскаков колесил по мастерским.
– Да, наворотили делов…. – говорил очередной автомеханик. – Это всё из-за регламента. У меня знакомый, он тоже то ли раму пилил, то ли чо.
– А чо за знакомый?
– Генка один…
«Генка оказался здоровый полный малый с блестящим неровным лбом и прозрачным по-над ним ёжиком. Занимался «проколами» – протягивал коммуникации под дорогами. У гаража стояла его рабочая машина: фантастически-затрапезного вида японский грузовик, обвешанный ржавыми цепями, штангами, какими-то трубами и несусветными устройствами. Генка сделал большую трудную работу за городом и сидел в гараже, ел вяленую рыбу на газете и запивал пивом. Машина, о которой предстояла речь, стояла в гараже. Пыль на ней казалось светлой, а когда я протискивался к Генке, на куртку легла тёмными мазками.
– Не-е... Я раму не переваривал. Ешь пелядку, – чавкнул он. – У меня вообще не так было. Пиво будешь? Томское. У меня баллон дома… – «ль» он произносил мягко, особенно в слове «баллон» прозвучавшее как «баллён», и так пустился в рассуждения про пиво, что я еле вернул его к теме.
– А-а-а, ну… – жуя, скучно отозвался Генка, разочарованный собеседником, и нехотя начал: – Короче, я подготовился. Такой стоит шестьсот. Я беру в городе за триста ушатанный и ставлю на учёт. А в Амурской области, в Свободном, нахожу такой же, только путний, но без документов. Тоже за триста. На паровозе еду в Свободный. С собой беру документы, табличку подкапотную и клёпальник. – Он запил шипящим пивом розовато-белую пелядкину спинку. Мясо он отделял сапожным ножом, так возя по шкурке, что под ней елозила и рвалась газета и жёстко отдавался обитый жестью стол. Пиво наливал в бурую от чая эмалированную кружку, и оно входило в реакцию с заваркой на стенках и пенно лилось на газету.
– Клёпальник?
– Ну, клёпальник… – в слове «клёпальник» «ль» оказалось и так мягким и он словно промахнулся. – Клёпальник обычный. И заклёпки. Приехаль. Стрелю забили колё трассы. – Генка обгладывал плоскую рыбинку за рыбинкой и постанывал, укал как-то: – Деньги отдаль, у, машину забраль. М-м. В кусты загналь. Табличку переклепаль. – И добавил презрительно: – Х-хе! Талён этот… – условность таблички его ужасно смешила.
– А… на двигле?
– Да погоди… Короче, мужик этот, чей «крузак», сказал, что после Читы менты такие машины пасут. Докопаются и капец, себе забирают. Страсть их ценят. До Читы доехаль, ну и стал договариваться, чтоб до Улян-Удэ в фуре проехать. Там здоро-о-овая плёщадка… – он провёл вокруг ладонью и сказал восхищённо: – Дальнобои. Ну и парень на плёщадке, типа разводящего, всё сразу поняль. «Сиди, грит, тут пока». Сижу в кафешке. А там бурят пиво пьёт. – Гена всё увеличивал крупность рассмотрения: – Худющий, в чём душа держится, пиво течёт по усам, – он восторженно показал пальцем, как течёт пиво. – «Сигареты есть?» – «А что свои не имеешь? – спрашиваю. – До чего ж ты, говорю, докатился… Ты хоть ешь что-нибудь?».
– А на движке номер не перебивал?
– Не перебивал. И… ты не перебивай. Короче. Я спрашиваю: «Ты хоть ешь?» – «Коне-е-ечно ем», – изобразил он комичную солидность бурята: – Ва-а-ажный, как слён. «Ну что ешь-то?» Тот: «Ры-ы-ыбу, по-о-о-озы», – несколько раз протянул в нос рассказчик, требуя ответного восторга.
– А дальше?
– Ры-ы-бу, по-о-зы… – не расставался с бурятом Генка. – А дальше? – спросил он, теряя интерес, и чем сильнее удаляясь от кафешки, тем чаще озираясь на неё и всхохатывая. – Смотрящий подводит меня к дальнобою… Здоро-о-овый стоит. Песят-пятый регион. Омск. Договаривайтесь. Договорились. Загоняй. Загналь. И поехаль с ним. А в Уляне выкатился. Ну и всё. А дома только с рамы на раму перекинуль. Не, ну чудотворец: «ры-ы-ыбу, по-о-о-озы»…
– Дак а на двигуне номер-то как?
– Да там никто не смотрит. А где смотрят – я в фуре проехал. Х-хе.
– А на раме?
– Да грязью замазаль.
Гена вдруг как проснулся:
– Дак у тебя в чём загвоздка-то?
Я объяснил.
– Искать «биток» с документами, – собранно отвечал Геннадий, – резать и переваривать раму. Талён этот склёпывать. И на двигле перебивать. Парни аккуратно делают… Но всё это стрёмно. И это если на учёт не ставить-снимать. А как я езжу – за четыре год никто не глянул. А в твоём случае… Не знаю… – он прицыкнул языком и покачал головой: – Если продавать... На запчасти только. За четверть цены уйдёт. Либо самому – ключ в руки, х-хе и вперёд. По узлям дороже. Но однозначно скидывать надо. Тольку не будет. Зря пелядку не ел. Удачи. Не за что…».
Баскаков уже въехал в город и полз по пробке, упираясь в красные фонари японского микроавтобуса, рвано парящего выхлопом. На бугре микрик шлифанул, прочертив шипами по льду. Лёд красно блеснул в фонарном отсвете. Рядом парень в обшарпанной тёмно-зелёной «висте» курил в открытое окно. «Как я когда-то…» – с теплом подумал Баскаков.
Баскаков всю жизнь или сидел безвылазно в Тузлуках за письменным столом или несся по тёмной утренней дороге, врываясь в город мимо огромного бетонного забора с рёбрами и колючкой. Забор этот знал ещё со времён, когда ехал на крепкой русской машине – чёрной, с форточками, малиновым салоном и воздуханом, похожим на диск от ППШ. Он тоже тогда курил, опуская стекло в любой мороз, и было что-то великолепно-несовместимое в студёном трепете за окном и смеси морозного ветра с табачной едкостью, на границе которых завязывался целый фронт неуюта, резкости и ангинной стыни, бывшими Баскакову так же нипочём, как дыры в асфальте – листовым рессорам его «двадцать четвёртой».
Парень бросил окурок на дорогу, тот рассыпался на искры необыкновенно ярко и тревожно. Баскакова не отпускало три вещи: передача денег, встреча с тягучим, как столярный клей, Петей и покупка новой машины.
Встретились уже без Толи с Напильниками, помчались на авторынок и там всё сделали в павильончике у Жанны, оказавшейся красивой и ушлой девахой с косой белёсой чёлкой. На документе появилась надпись, что договор расторгнут и что Баскаков больше не хозяин. И печать.
Баскаков хотел, чтобы деньги передавались при свидетелях, поэтому надо было успеть, пока мужики из гаража не уехали по делам. Встряли из-за аварии. Из гаража звонили, торопили. Дамочка на новой и уродливой корейской машине подалась по диагонали, не включив поворот, ещё кто-то рядом не так ехал, и парни особенно злились, матерились. «Но, чучело!» – рявкнул Серёжа-Валера на пешехода, который замешкался и не решался: идти или ждать – сначала было пошёл, потом остановился, Валера выждал, но едва тронулся – и тот рыпнулся.
В гараже передали деньги. Баскаков пересчитал и дал перечесть механику: всё было правильно, только часть пачки пухло темнела мелкими измызганными бумажками. Не веря, что всё случилось, вышел во двор. Ребята выехали на его серебристой машине и стали перед воротами – он видел их через лобовое стекло: сидели слаженным экипажем, устремлённые в свои дела и, не глядя на Баскакова, о чём-то судача, ржали.
Баскаков на всякий случай проверил в банке деньги – как и думал, они были не фальшивые. Встретился с Петей и забрал недостающее. Звонил Артёму, тот не брал трубку, потом всё-таки объявился, и на следующий день Баскаков поехал встречаться. Артём оказался невзрачным худеньким пареньком. А машина – отличной. Ясное серебро. Чистый кофейный салон. Запаска на калитке, люк. Но главное, что её состояние было намного лучше той, на которой уехали Напильники.
Утром машину оформили. Поставили на учёт. Артём предложил натереть мастикой бесплатно («наш салон делает предпродажную подготовку!»), но Баскаков отказался. Привинтил номера, поменял у знакомых ребят масло и победно вернулся в Тузлуки. Предстояла вечерняя исповедь.
Вид из космоса
Лена все дни не то болела, не то капризничала, и лежала, читая и что-то записывая в тетрадку. Была бледной, вялой и раздражала Баскакова, приезжавшего усталым и одновременно звенящего событиями и требующего ответного перезвона.
Отец Лев был другом семьи. Жил он при монастыре в Боеве в двухстах километрах от Тузлуков, куда Баскаковы собирались на Рождество. Сейчас по сложившейся традиции он приехал в Тузлучинский монастырь. Исповедь была вечерняя, могло прийти много народу, но Баскаков знал правило отца Льва исповедовать столько времени, сколько потребуется. Помимо исповеди Баскаков хотел спросить у отца Льва духовного совета по его отношениям с Ёжиком и не знал, позволит ли время.
Серёжа Шебалин был знаменитый, с гусарскими повадками парень. Когда просили его описать, отвечали: «Помните казака с картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»? Там один с веслом. А другой, второй с кормы – с ружьём который: вот это он! Не помните – обязательно посмотрите».
Сходство было удивительное: совпадало именно стремительно-грозное выражение лица, летящий покат лба и свирепые белки. Только Сергей был поплотней, поухоженней, посинеглазей. И нос имел, что называется орлиный, а усы поменьше и позолотистей. Со школы был необыкновенно взрослый, крепкий, брился и курил класса с восьмого, а в студенчестве был накоротке с мужиками-преподавателями.
Чудил Ёжик напропалую. Будучи коноводом, потащил как-то всех в пивную. По дороге поймал белого голубя, и тот доверился ему и как привязанный ходил по столу меж кружек. Пивнушка закрывалась, и ребятам пришлось взять пива с запасом. Запас оказался столь основательным, что, несмотря на приказ Ежа допивать, пиво встало столбом в пищеводах. Добыли где-то прозрачных пакетов и по-хозяйски залили остатки. Собрались в гости. Долго ловили машину – компанию с янтарными пакетами никто не брал. Пузатые подушки подтекали с углов. Ёж одной рукой придерживал пазуху с голубем, другой писал на асфальте пивом: «Баскак дурак». Наконец он ухитрился остановить скорую помощь, компания в неё взгромоздилась и помчалась под крик Ежа: «Шеф, включай сирену, гони на красный!».
В гостях уже были какие-то тихие посетители. Ёж моментально перелил пиво в кастрюли, сгонял кого-то за водкой и, вовсю разойдясь, впал в чтение на память «Чёрного человека». Читал кусками, а когда сбился, маленькая, похожая на землеройку, девушка Соня с цигейковой шевелюркой пискнула:
– Как вы относитесь к Бродскому?
– Так же как к Троцкому! – рыкнул Ёж и так сверкнул белками, что девушка задрожала и спряталась в другую комнату. Вскоре поджало пиво, и Ёж рванул в уборную, находившуюся в конце длиннейшего коридора, гэобразно ломающегося к кухне. Комната, где притаилась Сонечка, тоже выходила в коридор. Девушка отправилась в экспедицию за чаем, и на беду оказалась перед Ёжиком. Решив, что его пытаются опередить, он наддал, а девушка, услыхав за спиной угрожающий топ, обернулась и наддала тоже, стремясь к укрытию – к той самой уборной, куда рвался и Ежина. Началась гонка, но девушка оказалась шустра, и Ёж не успел: раздался щелчок шпингалета. Он несколько раз колотнул в дверь ногой, и, не теряя секунд, выскочил на улицу, вернувшись с которой обнаружил, что ни этажа, ни квартиры не помнит. Сев в лифт, взялся обзванивать все подряд квартиры на каждом этаже. Нужный, видимо, прозевал и, отчаявшись, влез в лифт и нажал все кнопки сразу. Кабина застряла. Он принялся молотить ногами. Жильцы вызвали милицию. Приехал наряд, но Ёж с такой убедительностью пробасил: «Товарищ сержант, поставьте свой автомат на предохранитель. Я Ёжик, ни головы, ни ножек», что наряд посмеялся и уехал, а подоспевшие лифтёры пленника освободили.
Дальше Ёж рассказывал, как проснулся в незнакомой комнате и в рассветной синеве увидел на буфете фарфоровую троицу: «Пёсик, котик и голубчик. Когда голубь почесал клювом крыло и пошёл, я понял, что надо остановиться». К сожалению, это так и осталось анекдотом, хотя пивная каллиграфия «Баскак дурак» имела продолжение.
Одним из первых Ёж обнаружил спутниковые американские карты, отражающую местность до мельчайших подробностей. Подговорив друзей и приехав в Тузлуки, он подпоил Баскакова, а наутро на лужайке рядом с домом компания выложила огромными ветками «Баскак дурак». Фотоснимки карт в те годы обновлялись редко, и удивительным образом обновление произошло как раз тем утром, так что карта висела чуть ли не год. Потом, правда, оказалось, что Ёж подглядел задумку этой хохмы у журналиста Алексея Тарасова, но про то помалкивал и продолжал утверждать, что сам всё придумал, изучил, да ещё и подстроил, и распространял целые фоторепортажи с подписями: «Усадьба писателя Игоря Баскакова. Первый снег», «Тузлуки. Бабье лето». «Осенний звон. Дума». «Усадьба классика – вид из космоса».
Между двумя надписями «Баскак дурак» целая жизнь прошла. Шебалин закончил исторический факультет по специальности археология и этнография. Хорошо знал английский язык и в нужный момент успел завязаться с иностранцами и отхватить выходы на международные археологические программы. В то время на коне оказывался тот, кто без запинки мог произнести словосочетание, вроде, «sustainable development». Потренируйтесь: састенебл девелопмент, састенебл девелопмент… Ну как? Вот то-то и оно. А Ёж мало того, что великолепно справлялся с девелопментами, но и обладал даром вписать их в чиновничьи планы, без чего никакой серьёзной деятельности не могло быть и в помине. Среди кабинетных бытовала легенда, как Шебалин, «пинком открыв дверь, врывается в кабинет министра и с пылающим взором и криком «систенебл-девелопмент!» убеждает в чём угодно». Подобное действительно случалось и давалось искренней и открытой повадкой, умелым и убедительным словом и глазами, горящими то свирепо, то восторженно. Чиновников подкупал его сугубо мужской вид, компанейская манера, то вкрадчивая, то армейски-горластая, способность перепить любого начальника и героем выходить из любого заезда на всякие базы с банями, бассейнами и их обитательницами.
Но, пожалуй, главный его талант заключался в сочетании двух умений: бескорыстно сиять идеей науки и, чувствуя людей, оказываться рядом в нужный момент. Всем казалось, будто за ним кто-то всегда стоит, так умел он обобщить своим видом дух любого из кругов – чиновники думали, что за ним наука и иностранные деньги, наука – что иностранные деньги и чиновники. Иностранные деньги жили по своим идиотическим правилам: их не разрешалось тратить на строительство, но при этом поощрялось просаживание тысяч на никому не нужные рок-фестивали. Ёж был хитёр и умудрялся хотя бы часть выручить и пустить на дело.
При всей любви жить на широкую ногу он стоял на принципах братства за идею и свои успехи делил на друзей: кураж и товарищество были его главные опоры. Очень поддерживал Баскакова, когда тот жил впроголодь, и издал его первый сборник рассказов «Бичуган из Богучан».
Шла совместная долгосрочная программа по исследованиям в Горном Алтае. Ёж с совершенно невозмутимым видом произнёс словосочетание «The Altai Мountains – the territory of sustainable development», после чего на въезде в республику появился огромный щит «Горный Алтай – территория устойчивого развития», а Ёж открывал пинком уже любые двери.
В это время позакрывали региональные киностудии, зато приехала из Франции некая кино-старушенция учить сибиряков документалистике, и её тут же облепили непризнанные дарования, которых Ёж умудрился растолкать и так закорефаниться с этой Катрин Водё, что вместе с ней и своим фотографом они отсняли документальный фильм «Принцесса Укока». Монтировали его во Франции, где Ёж завёл кучу знакомств и раздобыл для института новейший георадар, с помощью которого на Укоке открыли поселение афанасьевцев. До сих пор считалось, что они туда откочёвывали только летом и вряд ли укрепляли быт.
Шебалин работал в институте и одновременно был экспертом в одном международном совете. Вскоре его как специалиста по Горному Алтаю, владеющего английским, свели с премьер-министром, который должен был везти на Укок некоего «азиатского прынца». И Ёж настолько удачно провёл поездку, попутно устроив рыбалку, родоновые грязи, пантовые ванны и охоту на козерогов, что оказался небывало подтянутым к сферам. Как на шарах поднятым, неудобно поджатым к потолку и поглядывающим оттуда стеснённо, но невозмутимо.
Ёж был так уверен в своих силах и так ненавидел бездельников и хитрованов, что не заботился о тылах. Непривычка к уступкам и резкость привела к порче отношений с директором института, который попытался присоединиться к Ежиным достижениям. Ёж взбрыкнул, и попытался сам вырулить на очередную взлётную полосу под названием «Плато Укок – урок экологического штиля», но его наработки и заслуги моментально были приписаны различным захребетникам, и он оказался оттёртым в разгар самых дерзких планов. В то время заговорили о русско-китайском плане газопровода через «зону покоя Укок», и Ёж на совещании у министра назвал его «безобразной авантюрой, замешанной на карманных интересах группы нефтегазовых дельцов, не имеющих ни малейшего представления ни о научных, ни о государственных интересах». Досталось и науке: «Наука?! – возмущённо крикнул Ёж. – Попомните моё слово: едва всем этим трупоедам покажут газовые бабки, они забудут о научных идеалах и засунут языки в …пы!». Так оно и вышло.
Враги ликовали, и Ежа постепенно выдавили из нескольких проектов, а в самый решающий момент ему прилюдно изменила жена, руководящая одним из смежных направлений, и он выгнал её из дому, оставив дочку, которую та обманом забрала.
С криком: «састенебл-девелопмент, суки!» Ёж шарахнул ногой в приёмную президента Сибирского отделения Академии наук, но его не приняли. Ёж не справился. И не оттого, что не привык проигрывать, а оттого, что всё его победное организационное бытие было изначально пропитано застольем, и никто из друзей, которых он щедро трудоустраивал вокруг себя и вовлекал в летящий и полный планов кураж, не понимал, что вечный коньяк на столе был для Ежа намного важней, чем для всех остальных. Его карьера была как хмельной полёт на снегоходе – ночью, в мороз, по наледи. Когда ледяной ветер бодрит, пока несёшься, а при первой поломке гробит. Она случилась, и пришлось спешиться. Тут коньяк навалился и стал забирать – по-хозяйски, как ночная стужа.
Баскаков писал:
«Выходит, чем больше печатаюсь и утверждаюсь в опорах и внешних и внутренних, тем сильнее рушится Серёжа. Он уже поменял с десяток работ, с которых всё чаще вылетает, потому что или пьёт или пребывает в таком звеняще-придирчивом и гневном раздражении, что от него стараются избавиться. Питьё совмещается с ночным рытьём в новостях и отслеживанием моих выступлений и интервью, где Ёж наполняется бесконечным несогласием и осуждением, которые выплёскивает при встрече.
Начинается спор, тяжкий ещё и тем, что Ёж ничего на свете уже не любит, кроме «нескольких людей» и общей идеи «организованности». Когда его спрашивают, что он сам предлагает сделать сегодня в России, отвечает, что каждый должен заниматься «своим делом», что не его обязанность что-либо предлагать, что не берёт на себя такую ответственность в отличие от «некоторых», и, вывернув на поле нападения, разворачивает атаку.
Говорит дежурные три вещи: что в «нормальных странах» всё по-другому, что хватит нам идей – пусть каждый «на своём месте хорошо дело делает», и что здесь ни при какой идеологии ничего путнего не выйдет.
Разговоры о Родине не выносит, называет пафосом и морщится. Морщиться он любит, и существует с десяток разновидностей Ежиного сморщенного носа. Весёлое, короткое, затрагивающее только переносицу, – когда кто-то что-то глупое говорит, а он со мной переглядывается. Кабинетное, будто на случай прослушки, когда спрашивают про нового губернатора: «Ну как он?». А сморщенный и несколько крысиный нос означает, что надеяться не на что. Просто сморщенный нос – от весёлого настроения. А бывает нос-сигнал – когда, устав сидеть над письмами, Ёж смешно шевелит очками, намекая на коньячок.
Средне-брезгливая наморщенность означает, что тост за Россию так же неприличен, как разговор о героизме среди военных или обсуждение таёжного риска промысловиками. В молодости нам всем так и казалось – патриотизм ассоциировался с пропагандой чего-то набившего оскомину. Среда, где рос Ёжик, была пронизана щепетильностью и бабьими страхами кого-то обидеть и потребностью без конца защищать тех, кто и не подозревал о том, что нуждается в защите. Пестовался обострённый нюх на некое настоящее, на неприятие поддельного, массового, и способность рассекретить и отсечь как можно больше постыдно-поддельного считалась сословной доблестью.
Ёж с одинаковой ненавистью относился к любому «ненастоящему», и замечательна была реакция на него дам, падких на текущие ценности. Он выглядел очень внушительно, весь в породистых штучках, водоплавающих телефонах и дорогущих карабинчиках для путешественников. За этим дыханием заграницы недалёкие девы чуяли большой буржуазный достаток. А поскольку он был намного интересней и обеспеченней краснолицых коммерсантов в меховых кепках и с маленькими портфельчиками на ремешках, то невесты на него так и клевали. А когда он вваливался в клетчатой рубахе в какой-нибудь священно-заповедный псевдояпонский ресторан, то настолько шокировал спутницу простецкой повадкой и презрением к новомещанским нормам, что слетали все девчонкины настройки.
О русском народе говорил так:
– Да, дерьмо народ, завистливый, ленивый, тупой. Ни мне, ни соседу. Лишь бы дальше носа не видеть. У Толстого хорошо на эту тему написано – как казаки на французский арьергард напоролись, сбили их, и вместо того, чтоб гнать до талого, знаешь, чем занялись? Сёдла с убитых лошадей сдирать. Х-хе! На хрена наступать? Сбруя важней. (Да, девушка, я же сказал: малосольный муксун, два стейка из оленины и ноль семь «Белухи»…) Духовность, б..! В Приморье батёк церкву строит – китайцев нанимает! Ваши-то православные где? Чо молчишь? А? Хрен на. Да на здоровье… Ни тачку собрать не могут, ни рубаху сшить… – Лицо Ежа особенно багровеет, а белки сверкают: – Уезжал тут в Рино на охотничью выставку, а мать в больницу попала. Прихожу – она в коридоре на койке голая лежит, мимо мужики ходят, она орёт, ни одна падла не подойдёт! Ни од-на! А нянька, мерзота, сидит в ординаторской на стуле в телефон базарит и бутерброд жрёт… С салом. Сука жирная… – и начинал тянуть медленно, таинственно: – Не-е-ет. Ничего здесь не будет. Нич-че-го. – И обрубал: – Давай! За маму мою! – и краснел глазами. – Чудесная женщина! Закусывай… – И сам, закусив, выходил на новый круг: – Игорь, я был на ранчо в Монтане. До чего там прекрасно всё организовано. Тебе бы просто понравилось! Просто. Ты не представляешь, сколько там ручного труда! И всего натурального. Традиционного. И как они берегут это. И так же всю эту хрень тоже терпеть не могут… Нью-Йорки всякие. У них даже выражение: «Plastic World». Да вот! Вот! Казак твой, Михайлов, рассказывал, как их в Швейцарии принимали. В горах. Какие там деревни, музеи, спевки-гармошки! Прекрасно живут именно тем традиционным, за которое вы ратуете, – и снова отстранённо, как мохом проложит: – Не-е-е. Ни-чего не будет… – И следующее бревно наваливает: – Это у вас тут не могут порядок навести. Элементарные вещи. На Урале человек сделал музей, а орава дармоедов из управления культуры его в такой угол загнала, что он кони двинул. Игоряшенька, дорогой. Ник-ко-му ни-че-го не надо. Одни бабки на уме. Бабки и халява. Всё! Давай! За нас!
Пытаешься возразить, что в тебе дело всегда! Не в том, какой народ, а в том, что ты для него сделал. И что на тонущем судне можно сколько угодно в гармошки играть.
– Не надо ничего ни для кого, и ни за кого делать, – дидактически по складам доносит Ёж. – Все оч-чень взрослые люди. (Девушка, а у вас есть морс?) – Переглядывается: – Симпатичная, хм… (Девушка, а вы в Горном Алтае были? Напрасно…) Баскак, а хочешь, я тебе исследование закажу? По Горному проедешь, посмотришь, с людьми поговоришь, ещё и денег заработаешь. А? Давай? Девушка, а принесите-ка нам листочек бумаги, э-э-э… автоматическую ручку и груздочков со сметаной! Хорошая, кстати, работа могла бы получиться… Как же она будет называться-то? Так. Давай! За тебя! Э-э-х! Хороша! И груздочки… просто зашибос… «Обзор…». «Обзор состояния… Так, так… обзор состояния и перспективы развития традиционных укладов на территории… хе-хе… – и он посмотрел с победной хитринкой и подмигнул: – устойчивого развития Горный Алтай». Ты и староверов туда воткнёшь, пока живые, и казаков, и алтайцев… Это ж история! Это твоё всё! Ну? К Кучугановой съездишь. А? Ну что? За нас!?
…Пить мог бесконечно и никогда не терял облика. Все уже не вязали лыка, а в Европе едва подходило деловое время и ему начинали звонить. Он не только отвечал как ни в чём не бывало, а ещё и горящим мозгом ухитрялся нащупывать новые задумки, а закончив разговор, садился за стол и до утра, припивая коньячок, писал письма на великолепном английском.
Картина из юности, которую никогда не забуду… Ёжик сидит у костра на пихтовом лапнике. Волосы – небрежным шёлковым горшком. Борода, уже настоящая, крепкая с золотцем… Он обожает рубахи в клетку и сидит как раз в такой вот, красной в чёрную клетку, и снимает её… А у него торс, смуглый от природы, бицепсы, грудные мышцы выпуклые… причём он спортом не занимался, а сам по себе такой. И волосы дорожкой породистой на грудине… И он эту рубаху снимает и швыряет… и так небрежно, под нос говорит: «Женщины, зашейте рубаху»… И они, прямо несколько штук девушек, как чайки, пикируют за его пропотевшей рубахой… А здоровый был кабанюка, мы его вдвоём с Костей не могли заломать, на руках висим и ничего сделать не можем.
В молодости у Ёжа были густые волосы. Потом они стали редеть, появилась маленькая, похожая на китовый ус, карманная расчёсочка с короткими зубчиками, с которой он стал задерживаться у зеркала. Потом он очень сильно полысел, и сейчас напоминает уже не орла-беркута, а стервятника или сипа: худая костлявая голова с орлиным носом, и особенно страшный меловой с похмелья вид – трупно-синие мешки под глазами и в самих глазах сумрак… Могильный сумрак… Не могу… Не могу… Серёжа, прости…
Пришедшие к вере его бесят, и с ними он расправляется, как Губошлёп с Егором Прокудиным: казнит за прошлое. Беспощадно. И ненавидит «попов». И также ненавидит шваль всю мелкокусачую. Логики никакой нет. А есть сердце большое и доброе. И больное. Но что-то мешает… сословная гордыня, воспитание, не знаю… В душе-то он всё любит, и мешает только точка, с которой он смотрит, и если бы его чуть с неё сместить, даже вместе со стопкой, то может всё бы и наладилось?
Куда-то нас пригласили, а он прознал, и рвался к нам, не мог найти, и пришлось ехать навстречу, забирать… А там… шашлыки, лаваш, чача-мача. Шум-гам. А потом вдруг – как звук убрали, и мы смотрим друг на друга. И я вижу его красные веки толстые, и эти глаза набрякшие, разъезжающиеся, будто они… упали, с краёв обвисли, но всё равно – глаза. Язык что угодно молоть может, а глаза не обманут. И я гляжу в них и спрашиваю: «Ну ты как, Серёг?». А он говорит немножко нараспев и совсем не по-боевому, не по-ежиному: «Всё хо-ро-шо. Всё бу-дет хо-ро-шо». И я смотрю в эти обвисшие глаза и всё внутри рвётся: «Прости меня, братка, прости! Ну как? Ну как мне тебя спасти!? Было б на войне – на руках вынес бы! Иль полегли бы оба! А сейчас – как помочь? Если ты даже сам себе помочь не хочешь! Сколько уж всего переговорено. Ну как? Как?! Да что же за горе-то!». И я смотрю в эти глаза и погибаю, каменею, молчу, и всё больше и больше в этом молчании лжи и предательства. А в глазах его чёрным по белому: «Пристрели меня! Или без войны тащи…».
Исповедь
Александро-Невский храм в заштатном купеческом городке Тузлуки был построен в конце девятнадцатого века после убийства в 1881 году императора Александра II. Тузлучинский купец Никифор Вытнов обратился в Святейший Синод с просьбой разрешить построить на свои средства храм во имя небесного покровителя убиенного царя – князя Александра Невского. А в конце двадцатого века вокруг храма была основана женская обитель. Монастырь был небольшой, но аккуратный и ухоженный, белые постройки, творожно-белый собор с золотыми куполами, кованые ворота.
Народу в храме было не много, видимо больше рассчитывали на Рождество. Баскаков пропустил Лену вперёд, и сам оказался последним. Отец Лев – рослый, светлоглазый, немного напоминающий доброго волка из «Иван-царевича», с лицом собранным, утянутым к некоей точке впереди носа. И в очках, каких-то особенно прозрачных, круглых, в тонкой серебристой оправе. С седоватой раздвоенной бородой и взятыми в пучок власами, нависающими с боков расслабленно и выпукло, и тоже седеющими и немного в зелень. Он с Юга России, гхакающий, но не по-украински придыханно, а пожёстче, по-донски. Замечательна его улыбка, особенно захватывающая глаза – радостно-смущённая, всепонимающая, от которой на душе тепло и надёжно. Очень он пришёлся Баскакову с Леной доброжелательностью, рассудительностью, неприятием формализма.
Отец Лев велел Баскакову читать на клиросе, а пока исповедовал Лену. Баскаков читал в пол-оборота, и поглядывал на Лену, видел, как двигалась её голова, когда она говорила. И как отец Лев, улыбаясь, склонялся к ней и тоже говорил, то глядя на неё, то озирая храм. А потом накрыл ей голову плотной и будто твёрдой епитрахилью, приложил ладонью и сняв, освободительно плат епитрахили, кивнул на Евангелие. Лена поцеловала Евангелие и крест и отошла сначала быстро, а потом медленно, сбавив шаг и описав задумчивый полукруг. Отец Лев кивнул Баскакову.
– Готовился?
– Да. Батюшка, благословите… Исповедуется раб Божий Игорь. – Игорь замолчал, а потом заговорил робко как-то, ещё пуще смущаясь от этого и теряясь: – Батюшка, грешен, и честно – будто никакого движения нет. Всё… всё то же самое, что в прошлый раз. Раздражение на близких, на жену, требую от неё слишком многого, старинного какого-то бесконечного духа, затворничества, неприятия всего… этого… ну понимаете... Батюшка, знаю, что надо грехи перечислить, не раскрывая, но если можно, если у нас есть время, всё-таки прошу разрешения…
– Благословения.
– Благословения… на более подробный разговор. Есть у нас время?
– Время всегда есть, если с ним… не состязаться, – улыбнулся отец Лев.
– Да… Чревоугодие, батюшка... В пост, когда гости, не всегда могу удержаться от спиртного. Ещё… ммм… похотливые мысли посещают. Ещё не сквернословить стараюсь уже много лет. Но бывает, когда оказываюсь с кем-то простым-трудовым, кто ругается, не могу удержаться. Не потому что подумает: чистоплюй… А вроде как ругнусь – и будто обозначу, что свой. Что оттуда же вышел. Стыдно. Ну и главное… Маловерие. Мало сил. На всё, что угодно есть, а с вот душой помолиться – не могу. Не всегда могу. Хотя мог раньше.
– Вот послушай. Ты, когда писать начинал и ничего не получалось, верил, что ты уже писатель? Что уже там? В литературной вечности? Хоть ничего не умеешь. Верил?
– Верил, батюшка, – с жаром сказал Баскаков, – сквозь всё верил.
Он смотрел то на Евангелие, то на отца Льва.
– И тебя ничто не могло ни остановить, ни поколебать… А тут-то в чём дело? Господь сказал – будьте как дети. Отец ребёнка подбрасывает вверх и ловит. И тому в голову не придёт, что его уронят. Маловерие – это недоверие. Ты не доверяешь тому, кто тебя...
– Подбрасывает…
– Подбрасывает… Судишь по своей слабости. Мы думаем – чем плохо молиться, лучше вовсе не буду. А ты сверяйся. Сверяйся... Не хочешь молиться или спешишь. Не бойся, пожалуйся на себя, но чтоб Он слышал, знал… – отец Лев помолчал, немного нахмурился: – Нам на путь к Божьей благодати даётся целая жизнь. Да, конечно, это духовный подвиг. Но иначе зачем мы тогда всё это затеваем? В храм ходим? Так, обозначиться?
– Нет конечно, батюшка. Но вот грешен… батюшка, молюсь по-настоящему только, когда… ну… припрёт. А бывает, напашешься и такое бессилие духовное. И мне легче штабель брёвен перекидать, чем пять минут на молитве выстоять.
– У нас в монастыре, – медленно сказал отец Лев и внимательно посмотрел на Баскакова, – одна замечательная барышня, жившая трудницей, катала тяжеленные чурки, и новоприбывший галантный господин бросился ей на выручку. – Отец Лев улыбнулся: – А она ему знаешь, что сказала? «Спаси Господи, это моё. Ну а хотите помочь – так помолитесь за меня». Дальше! – с каким-то почти азартом сказал отец Лев.
Баскаков покачал головой.
– Гордыня, батюшка, писательская заедает. Люблю говорить бесконечно о своих достижениях. Когда выпадает слава – питаюсь ею.
– Преподобный Амвросий рассказывал: «Одна исповедница говорила духовнику, что она горда. «Чем же ты гордишься? Ты, верно, знатна?» – «Нет». «Ну талантлива?» – «Нет». «Так, стало быть, богата?» – «Нет». «В таком случае, можешь гордиться»! Дальше! – говорил отец Лев, и в этом «дальше» было требование какой-то необходимо-важной общей дороги, которая теперь зависела лишь от Баскакова.
Отец Лев сосредоточенно смотрел на крест и кивал, будто знал всё, что скажет Баскаков и теперь строго сверял его слова с неким оригиналом.
– Чем большую глубину стараюсь придать героям, тем меньше глубины оставляю себе самому, своим поступкам, вообще перестаю поступать и всё меньше участвую в жизни, живу в каком-то оцепенении. Правда. Мысли в глуби, а сам-то наверху где-то, как плёнка полиэтиленовая.
– Плёнка тоже нужна. На всё воля Божья. Молись. И помни слова: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник». Кто это, кстати?
– Теряюсь, батюшка.
– Гоголь.
– Не знал! Позор. И ещё рассудите. Вот для меня Православие неотделимо от России… А вдруг я шёл в Церковь только ради Русского мира? А не ради Бога… в чистом виде? Что-то говорю такое… И ради, и не ради… запутался, и так не так, и эдак.
Отец Лев схватился за голову и так катастрофически и безнадёжно наморщился, что Баскакову стало страшно.
– Ну что же… за несчастье! Ты же о Русской идее пишешь. А она Богочеловеческая. Это если хочешь – завет, замысел Божий о нашем народе. Потому что Бог сохранил Россию как свою Церковь. Как говорил отец Тихон: «Мир в когтях и мы ему помеха. Это и есть Русская брань и Бог в ней воевода. А с ним всегда победа».
Но только воюй с умом! Сейчас многие хотят стать православными писателями. И к нам в Боево приезжают. Я говорю: братья дорогие, не перегружайте книги церковной риторикой, не красуйтесь цитатами из писания, пишите житие современного человека, в котором воплощается русский духовный идеал. Православие – это истина для всех народов, и чем больше мы в нём продвинемся, тем больше возвеличим наше Отечество… Люби Бога. Люби Родину. Помогай их единству. Дальше! – почти вскричал он, словно, если не узнать, что дальше, случится непоправимое.
– Стараюсь… – смиренно сказал Баскаков. – И ещё батюшка, у меня с другом беда. И я не то, что совета прошу, я грех какой-то исповедую… огромный… а слова не найду… Есть у меня такой Сергей… Он очень деятельный был, с честолюбием, с планами. Всё получалось. И меня так поддерживал, что не забуду. Звонил, спрашивал, что я ем буквально. И самое главное – я сам потом так же поступал. Голодным помогал. Да. И он очень многого добился… И всё в одночасье рухнуло, предательство сослуживцев, потеря работы, измена жены. Всё в один год. А была привычка к пьянству, в котором мы все участвовали за его же счёт. Я его долго не видел, он уезжал, а когда вернулся через пять лет, оказалось, что всё это время он пил каждый день. Он привык побеждать. А тут… не справился с управлением. И все виноватыми стали. А уж как России досталось… Я ему пытаюсь… объяснить – всё в водке. Освободись от неё. А он: «А ради чего?». Я говорю: «В таком состоянии ты не можешь ни о чём судить, тут не одна трезвая неделя нужна – у тебя внутри руины одни». Не соглашается. Не хочет. Не может. А шли-то вместе… И он начал меня терзать, лезть в душу, судить, как я жил, что говорил, что теперь говорю, что пишу, во что верю. Причём матом. Оскорблять то, чем мы занимаемся с Костей, с Михайловым, ну такое… созидательное, наше. При этом к нам же и тянется – все гладкие знакомые давно на него плюнули. Только мы и остались. А тут заявил: «Пошёл ты из моей жизни навсегда со своими попами, и моралью, и Россией…». Вот и спрашиваю, что это всё: мой грех равнодушия? Помочь-то можно разве, пока сам не захочет? Общаться нельзя. Каждый разговор как обстрел… Чем живее откликаешься – тем беспощадней нападки. Что ему надо? Если он так ненавидит нашу любовь ко всему этому, – Баскаков повёл рукой, очертив окно и купол, – зачем к нам же стремиться? Вообще, что означают все эти упрёки?
Отец Лев отвечал немного холодно, режуще:
– Это значит, что человека так скрутили, что не вздохнуть, не пошевелиться, что он уже хрипит о помощи, просит в голос, кричит!
– Как я могу ему помочь? Только молитвой?
– Пьянство – это попытка благодати без духовного подвига и тягчайший грех. Иоанн Кронштадтский лечил через покаяние, через обет трезвости. Но для этого хотя бы минимальное воцерковление нужно. Хотя бы чтоб он в храм пришёл.
– Да какой храм! Он в баню-то войти не может. Его корёжит.
– Молись. Молись молитвой Иоанна Кронштадтского: «Господи, призри милостиво на раба Твоего… Сергия, прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй рабу Твоему Сергию познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь». Можно заказать молебен с Акафистом Пресвятой Богородице в честь Иконы «Неупиваемая Чаша». Можно молебен с Акафистом Святому мученику Вонифатию, и Великомученику и Целителю Пантелеимону.
– А если… всё-таки?.. Идти к нему…
– Называется идти на духовную жертву. Это только тебе решать. Дальше…
– Батюшка, я часто выступаю перед школьниками. Как к чему-то призывать, если сам несовершенен?
– Ни в коем случае не поучать от своего имени. Никто не совершенен. Тем более тебя не мораль читать ставят, а разъяснять слово Божье. Так у священников, по крайней мере, а у писателей…
– Тем более. Спаси Господи, батюшка…
Вернувшись с исповеди, Баскаков попытался прилечь, но Лена, которая его почти не видела последние дни, обиделась, и Баскаков выполз к столу, красный от усталости и насупленный. Обычно бывало наоборот – он Лену тормошил, особенно по утрам. Теперь, отдуваясь чаем, сидел Баскаков, и это будто было продолжением какого-то извечного спора, в котором каждый отстаивал свою правду и пытался приживить другому.
– Ну что ты? – улыбнулась Лена, завернув губку, и Баскаков ожил:
– Ты не представляешь, как он помогал мне.
– Кто? Отец Лев?
– Ёжик… На каком он коне был... И насколько не умел не делиться… добычей… А сейчас получается, есть я – такой сытый своим созиданием, своим служением Русскому миру, что аж свечусь… И есть он, у которого ничего – только одиночество и… это поселившееся в нём чудище, при котором он уже как гэсээмщик замызганный… Топливо принимает.... Закачка-раскачка…
Помню, мне так одиноко было под Новый год, куда податься не знал. А Серёга тогда только женился на своей капризуле, но он все праздники со мной провозился, притащил к себе… И мало того, что притащил, а ещё и уложил жену в другую комнату, а меня заставил лечь на огромную кровать их, а потом ещё и припёрся, и мы чуть не до утра с ним разговаривали. Причём он буквально проламывал её неудовольствие, мол, ничего не знаю, это товарищ мой…
– Да ему выпить хотелось.
– Да причём тут выпить! – взъярился Баскаков. – Просто он друзей не бросал.
– Игоряш, иди спать.
Баскаков ушёл, но едва приложился к подушке, позвонил Петя. Баскаков так и не поблагодарил его за помощь и переживал. Некудышный литератор, Петя был настолько тёплым человеком, что вокруг него все и кучковались, как вкруг очажка. Одно время он мёл метлой, и Баскаков представлял его, когда писал рассказ «Дворник». После разговора Баскаков окончательно прибодрился и вышел к Леночке. Она сказала:
– Отец Лев звонил, его срочно в Боево вызвали.
– Значит в Боеве и причастимся, – сказал Баскаков и снова завёл про Ёжика: – И ты понимаешь, ладно, я не могу его вылечить, не могу заставить этот мир вернуть-полюбить. Но были случаи, когда он просил простого поступка, простого, а мне настолько невыносимо было на него глядеть, что… э-э… – Баскаков крякнул и махнул рукой: – У меня этот случай с рубахами из головы нейдёт.
В стирку
Баскаков занимался альманахом, литературным фестивалем, семинарами и образовательными программами. А кроме рассказов и повестей писал ещё и очерки, и открыв какого-нибудь самородка, носился с ним как с писаной торбой. Однажды случайно подвёз бывшего зампотеха танковой бригады, который ушел в запас и стал делать танки. Ему из Москвы режиссёры заказывали технику. Раз сварил «тигра» и поехал на нём по водку, а тут попался дорожный патруль. И обошлось бы штрафом, но Тузлучинский прокурор прилепил ему пропаганду фашистского дела. Пришлось Баскакову звонить прокурору области и выручать.
Писал о музыканте Василии Вялкове, его песнях прекрасных и трагической кончине в упавшем вертолёте с начальством на отдыхе – истории сколь нашумевшей, столь и замятой. Ездил в Турочак к его жене Марине.
Писал о Мариинском самородке Юрии Михайлове – создателе музея бересты, архитекторе, музыканте и подвижнике казачьего дела.
Пропадал в Уймонской долине у Раисы Павловны Кучугановой. В небольшой избёнке чудная женщина устроила музей старообрядческой культуры, славный не столь предметами быта, сколь душевным обычаем: каждая экскурсия Раисы Павловны – духовное наставление, и ни слова от себя. «Старообрядцы-то скажут: «Гладого накорми, нагого одень, босого обуй. Найди человека ласковым словом». Та-а-ак они скажут».
Казаков и старообрядцев Баскаков равно любил за верность. Однажды его познакомили с Фёдором Шлыковым.
Основатель и руководитель ансамбля «Казачий струг» Фёдор Григорьевич Шлыков был крепкий лысоватый человек лет шестидесяти пяти, жизнь положивший на изучение и поиск народной песни. Хор у него был исключительно мужской, дониконовского звучания. Шлыков был мастеровой человек, краевед, собиратель Русского мира и музыкант. Голосюгой владел могучим, брал от низов до «дишканта». Шлыков имел староверские корни и просил отвезти его к староверам в Уймонскую долину, где хотел записать крюковое пение. Ехал с сыном Никитой – иконописным чернобровым юношей, заведовавшим у отца студией звукозаписи. Шлыковы двигались из Подмосковья, с подарками и справой, с гармонью, балалайкой и колёсною лирой.
Баскаков больше всего на свете любил сводить дорогих людей, и когда они входили в согласие, как голоса в Шлыковском хоре, был счастлив. Что для него значила смычка Григорича с Кучугановой, даже Лена не знала.
Уймонская долина Катуни – это меж Катунским и Теректинским хребтом. До Усть-Коксы, где собирались стать, от Новосибирска девятьсот километров, смотря по какой дороге сворачивать с Чуйского. Происходило всё между Рождеством и Крещеньем, стояло под тридцать, а в Уймонской яме меж двух хребтов воздух за ночь слёживался до полтинника. Днём южное солнце разрыхляло его вполовину.
Баскаков встретил и привёз Шлыковых в Тузлуки, куда уже приехал Михайлов из Мариинска вместе с Ежом, который прогостил у него праздники: лежал пристольным лёжнем на диване, приподымаясь лишь на стопку. Последнее время такое гостевание стало ему привычкой.
Приехав к Баскакову, Ёж воодушевился, но, когда все повалили в баню, остался – бледный, с бугристой стервятничьей головой и тёмным взором. В дорогой одежде из старых запасов, малиновой водолазной кофте, от которой начинал распространяться запах как от бродяг. Баня была аварийно несовместима с Ежом.
Внешняя часть Ежиной души спасалась близостью друзей, а главное существо было на бессонной приёмке горючего. Как есть кто-то, живущий тепло по-домашнему, и есть – кто век в плаще на берегу под дождём и снегом. Не расслабиться – то танкер подойти не может: вал, то ёмкостя отпотели, то раскачка, то промывка, то замеры по рейке… Работа. Какая тут баня? Дойти до неё Ёж бы и дошёл, и даже стянул бы обтягивающее, будто резиновое бельё, но ни вспотеть, ни вынести жар не смог бы, не говоря о хлестании веником и валянии в снегу, куда Баскаков с Михайловым падали крестами. Отпечатки на склонах сугробов так каменели, что приходилось в другой раз начинать новую часть снега, чтобы не отшибить задницы. По числу копий могло показаться, что парилась рота. Но про снег речь и не шла: с Ёжом, когда-то главным банником и парщиком, несовместимо было даже простое сидение на лавке с тазом. Что-то буйное он бы ещё выдержал по привычке к куражу, а вот кропотливое, вроде намачивания и намыливания мочалки, – ни под каким видом. Всё его проспиртованное нутро, химически, животно противилось любому очищению и приковывалось к столу.
Придвинули диван, и он лежал, изредка сам наливая и разговаривая с Леной, возившейся у плиты – гостей принимали в большой гостиной-кухне. Почти ничего не ел и время от времени отваливался заснуть – чутко и неглубоко – до первого перезвона.
Вернулись банщики, с блестящими лицами, с багровой сыпью на матово-розовых плечах. Прочитали молитву и Шлыков басовито обратился к Баскакову: «Хозяин, благослови стол», выпили по три стопки самогонки, закусили капустой, огурцами и холодцом с хреном. И затянули песню. Пошло, загудело разливом многоголосье, то расходясь рукавами-протоками, то сливаясь в могучее русло, и потекло по жилам, мурашками осыпало спины, подкатило под горло, под глаза, соединило дорогими словами. Ёжа подняло, он сидел, зажмурившись и мотая головой. Сжатой в кулак рукой отбивал такт и взревал: «Жги!».
Зажгли так, что Лена еле выжила. Ёж, шарахаясь, разбил зеркало в прихожей. Неуклюжий тяжёлый Шлыков потянулся за хлебом и, с изломом наклонив стул на двух ножках, сломал его. Со Шлыкова упали очки и он беспомощно глядел близорукими глазами и повторял:
– Я ведь хлебца хотел! Только хлебца… Ой, Шлыков! Ой, Шлыков. Ну теперь только песню.
О хлебце – особо… Баскаков не признавал магазинского хлеба и заставлял Лену стряпать домашний в духовке. Лена компромиссно упирала на новые тогда хлебопечки, и Баскаков купил дорогую и редкую японскую. Месил тесто похожий на угловатое крылышко тестомес, который надлежало выковыривать из горячего хлеба специальным крючочком и быстро убирать в надёжное место.
На протяжении казачьего гостевания Лена старательно следила за тестомесом, и с вечера положила отмачиваться от теста в стакан с водой подле раковины. Утро началось с бодрого Баскаковского выкрика: «Как ночевали казаки?» и басовитого нестройного: «Слава Богу». Взялись завтракать и собираться. Лена что-то насуплено искала: исчез тестомес. Кто-то из гостей мыл ночью посуду, и Лена подозревала, в пылу приборки выбросил дорогой предмет вместе с мусором. Перерыли кухню, помойные вёдра и разобрали пылесос – тестомеса не было. Шлыков перемазался в пыли и глядел на всех добрыми в складочках глазами. Был он несколько рассеянным, и находился под укоризненной опекой Никиты, который говорил: «Батя, ты опять мои носки надел?».
Шлыковы долго собирались, таскали справу, чуть не забыли пакет с напильниками – точить цепи от бензопилы: кто-то сказал Григоричу, что у староверов их вечная недостача. Баскаков нашёл его под столом и унёс в багажник. Позвонили из Усть-Коксы и ещё раз предупредили про «морозяки».
Ёжик тоже поехал, но не в Коксу, а к знакомым на Чуйском тракте, километра два в сторону в деревеньку. Когда его привезли и сдали хозяевам – восторженно-тихой паре из академгородка, – он не хотел расставаться, поставил на капот бутыль самогонки, велел петь и наливать... Обнимался, бился лоб в лоб с Баскаковым, вытирал слёзы.
Ехали долго, самую красотищу, где дорога пересекает Теректинский хребет и тянется по-над Коксой, проехали в темноте. В Коксе ночевали у друзей. Машину загнали в гараж.
Наутро стояло пятьдесят и котловина меж хребтов была в синем волокнистом тумане, только печные дымы поднимались веретённо-тонко, медленно и окаменело. И одновременно ликование шло от прибывшего дня, от южного солнца. Днём потеплело и они поехали в Верхний Уймон, знакомиться с Раисой Павловной. Теплейшие заповедные люди Кучуганова и Шлыков были настолько сильны и самобытны, что требовали вокруг свободного поля, людей с разреженной яркостью, способных лишь на поклонение, – и Баскаков, веря в каждого, переживал, как они сойдутся.
У музея едко парил выхлопом автобус. Перед избой была загородка из толстых жердей, а калитку заменял распространенный в скотоводческих районах мосток: с каждой стороны забора – по наклонной плахе, косой одноногой лавке, по которой ты и всходил. Шлыков, как был в форме казачьего донского войска и с гармонью, так и перелез забор по доске, моментально оценив, и, сияя, переглянулся с Баскаковым.
У Кочугановой были посетители, которым она рассказывала про обожаемых ею старообрядцев-старожилов, описывая каждого, величая по имени и проповедуя его словами. В доме находилась целая экскурсия из Санкт-Петербурга, несколько многодетных семей русских взглядов, рослые мужья с бородками и прямыми лицами, ненакрашенные жёны в платках и тёплых юбках. А дальше…
Шлыков зашёл в избу как в своё родное-кровное – с торжественным наигрышем, с монументальной снежной симфонической нотой, которую так хорошо чувствовал Свиридов. Шёл медленно, озаряя присутствующих по кругу ликующей улыбкой. Открытое курносое лицо его было начисто лишено натужной мышечной игры, какая так утомляет у гармонистов из электричек... и выражало только счастье и гордость за музыку и место.
Конечно, Кучуганова была сто раз предупреждена и ждала, и готовилась… но тут… Господи, как потянулось родное к родному! Как всплеснула женщина руками! Как вскрикнула: «Гости дорогие!». И как они обнялись – невысокие, крестьянски крепкие, сбитые, подсушенные жизнью… И как пол-России попутно стиснули объятием, к сердцам прижали! Видно, одной минуты ей хватило, чтобы с безоглядным доверием представить гостям Шлыковых как родных своих, и одному Богу ведомо – поняли экскурсанты или нет, при чём присутствовали. Баскаков-то не просто понял, а на двор вышел, отхлебнуться стужей.
Кучуганова конечно же согласились свести Шлыковах и со староверами, и с Мамаевыми из Тихонькой, и с их ансамблем «Товарочка», свозить в Мульту. Баскаков с Леной успокоенно вернулись в Коксу. Назавтра предстояло ехать в Новосибирск, у Лены был эфир послезавтра утром, она тогда ещё работала. Днём собирались готовиться к Крещению и встречаться с отцом Львом, который должен был прибыть из Боева в Тузлуки.
Вечером к Баскаковским друзьям в Коксу приехали парень с девчушкой из Горно-Алтайска. На Баскаковской машине стояла сигналка с ночным прогревом разных типов. Она отлично работала при тридцати и даже тридцати пяти градусах. Не то что Баскакову очень хотелось узнать, как она поведёт себя в полтинники, но что-то близкое его мальчишескую душу искусило. Он гордился и сигналкой, и свежепригнанной машиной, ещё надеясь на благополучное разрешение истории с пэтээсом. Увидя Горноалтайский дровяной «фордишко», ещё и без прогрева, он тут же уступил место в гараже – мол, его-то красавец в любой мороз заведётся! Лена на него наворчала: не можешь, мол, не «выдрыпываться».
В шесть его уже свербило предчувствие, и он вышел к машине. Серебристая, она стояла в еле заметном инее, кружевной побежалости и казалась особенно стеклянно-хрупкой. И какой-то лёгкой, пустой, как елочный шарик. Обычно после ночных прогреваний на заиндевелом капоте темнело талое пятно. Сейчас пятна не было, а под выхлопушей чернел кругляш копоти. Он потянул хрустальную ручку. Сел в каменно твёрдое кресло, закрыл по привычке дверь, но та не защелкнулась, и чуть отошла скрипуче. Еле установил ноги – коврик деревянно завернулся, не поправить. Когда вставлял ключ – брелок, качаясь, стукнулся, как камушек, о пластик. Жидкокристаллический значок, пульсируя, замирал, туманно мазался, рассыпался на копии – игрушечное существо, завоевавшее планету, не выдерживало правдивой этой стужи.
Только железному ключу всё нипочём – вошёл в замок, не дрогнув... Двигатель несколько раз слабо и замедленно шевельнулся. После пары таких попыток окончательно забросало свечи.
Достали солярную пушку. Она оказалась незаправленной. Канистра стояла в холодной и соляра в ней взялась бледно-зелёной шугой. Оттаяли соляру у печки, заправили пушку и Баскаков долго грел поддон и задний мост. Машина не завелась. Пришлось созывать народ и катить машину в гараж, где как раз освободилось место. Туда поставили и пушку. Вывинтили и просушили свечи и завели машину.
Лена ничего не спрашивала – просто быстрёхонько села в машину. Едва отъехали, позвонил Ёж и попросил Баскакова, чтоб он заехал и забрал узел с его рубахами в стирку: потом, мол, Баскаков или кто поедет за Шлыковыми и завезёт. Баскаков сказал «посмотрим» и раздражился – неужели нельзя на месте постираться!? Тоже момент нашёл, а тут ещё Лену напрягать заездами и стиркой… Бррр… Представляю, что за узелок…
Предстояло одолеть девятьсот километров. Асфальт был только от Усть-Кана. Баскаков решил срезать от Усть-Кана до Черги и выиграть ещё километров восемьдесят – там была щебёнка, но вполне приличная. Ехали хорошо, слушали Шлыковские записи, а Баскаков, чтобы расслабить Лену, ошучивал слово Черга, превращая в «кочергу», а потом перекинулся на названия, вроде Элекмонар и Джазатор, будто бы технические. Леночка совсем было оттаяла, когда раздался хлопок и прерывистое затихающее шипение. Баскаков пропорол заднее левое колесо, объезжая каменную кучу – колесо прошло по левой обочине и поймало острый камень. Прорвало нехорошо – длинная рваная дыра по самому углу колеса.
Баскаков бодро поддомкратил машину и приступил к запаске. И тут случилось непредвиденное. Запаска была не на любимой тиграми «калитке», а внизу на цепной лебёдке, доступ к который был через лючок над бампером. Баскаков вставил крючок, но оказалось, что на лебёдке ещё и секретка. Она открывалась специальной насадкой – Баскаков перерыл машину, но такой не нашёл. На улице было градусов тридцать, чистое небо обещало студёную ночь, и до посёлка оставалось вёрст полста. Среди сопок на безлюдной дороге связь не брала. Проехал, правда, алтаец с женой на заваленной узлами «калдине», но ничем помочь не смог.
Роясь в багажнике Баскаков обнаружил, что Шлыков перепутал пакеты – баскаковский со свечами и лампочками утащил, а свой с круглыми напильниками оставил. Баскаков заполз под машину и за час перепилил цепь, вылезая греться и ругая «идиота, изобретшего нижнюю запаску».
Баскаков посчитал, что заезда за ёжиковым узлом Лена не выдержит, и проехал мимо. Домой добрались к трём ночи. На следующий день после работы Леночка из-за пустяка раскричалась, расплакалась и расколотила своё любимое блюдо. «Я так готовилась к Крещенью, спасибо тебе, дорогой муж!». А Ёжик написал: «Просил-просил тебя заехать. Устал я от твоей невнимательности».
А Баскаков завёл прогревочный набор: брезентовую юбку и специальную паяльную лампу с отдельным большим бачком на шланге.
Редколлегия
Ранним утром шестого января Баскаков по обыкновению стоял у чёрного своего окна. Ночь выдалась особенно морозная, на градуснике стояло тридцать девять градусов, но уже было слышно, как задувал юг, клоня к потеплению. Трёхкамерное стекло держало ветер с невозмутимой недвижностью, и лёгкие шторы висели как каменные.
Баскаков встал в седьмом часу, и какая-то его часть по привычке рванула по делам, но описав круг, вернулась – не надо было никуда ни нестись, ни что-то решать.
Взбурлил и, щёлкнув, облегчённо затих любимый баскаковский чайник – круглый, фарфоровый, с узором, привезённый из Китая. Кружка была прозрачно-чёрного стекла, подарок Леночки. Баскаков заварил в ней алтайский травяной сбор – чабрец, курильский чай, бадан. Кусочки травы сначала сухо взмелись и закрутились в водовороте кипятка, а потом напитались водой и тихо ложились на дно, будто воспоминания.
Баскаков отпивал небольшими глотками и проверял почту. Из Уссурийска писала студентка Аня:
«Дорогой Игорь Михайлович! Я вспоминаю ваше выступление в центральной библиотеке. Вы тогда сказали, что у слова два смысла. Один литературный, а другой наш личный. Незаметненький такой, будто одно и то же слово из книги кричит, а когда тебя касается, быстрёхонько притихает. А тому грозному машет: – ты кричи погромче! А я отдохну пока…
Вы рассказывали, как в одном дорогом для вас месте вы читали из новой книги. И что слова были метр в метр об этом месте, и были намного сильнее вас… И как на самых главных словах… у вас сорвался голос…
Игорь Михайлович, я правильно поняла, что любовь – это, когда говоришь о земле, которая у тебя под ногами, словами, которые сильнее тебя. Да? Я начинающий поэт… Вы сказали, что слова должны быть сильнее, лучше, больше тебя? Я правильно поняла? Скажите, пожалуйста, как их… увеличить? С уважением – Аня Сивакова».
«Дорогая Аня. Вы не начинающий поэт: вы… действующий. Конечно, я хорошо помню ту беседу в библиотеке. И как вы сказали про типы писателей. Что одни до полу секут, а другие повдоль, слоями, на близость к земле снимают. И что Достоевский и так, и так берёт, поэтому у него все герои… в кубе. Это здорово. Правда. А насчёт слов: их не надо увеличивать. Да и некуда. Надо уменьшить себя».
Он перешёл к другим письмам. Джирджина писала по-русски:
«Здравствуйте, Игорь! У меня несколько вопросов по рассказ «Ёмкость». Вы начинать рассказ так: "Сан Саныч Тагильцев пошёл под Новый год за ёлочкой и провалился в ёмкость". Он пошел за ёлочка в место куда их продают? Я не совсем понимать, что такое "ёмкость". Это объём? Он провалился поэтически? Это русский метафизика? Я не могу находить термин. И почему он сказал "какая хрен-разница". «Хрен» это сексуальный слов?».
«Дорогая Джирджина! Ёмкость – это большая металлическая штуковина для жидкости. Она похожа на консервную банку, лежащую на боку. Для хранения бензина или солярки. Сontainer for diesel fuel (Баскаков слазил в словарь). Обычно их красят серебряной краской, чтоб не грелись на солнце. Ёмкость, в которую провалился Сан Саныч, была вкопана в землю. Видимо ней хранилась вода для какой-то противопожарной безопасности.
Там была военная часть, постройки, службы. Потом всё было брошено и пришло в упадок (…благодаря совместным усилиям… – хотел написать было Баскаков, но сдержался и махнул рукой: «Какая теперь… хрен-разница».)… «Хрен-разница» – это грубое выражение, заменяющее сквернословный аналог. Но в данном случае оно выражает неунывающий и смекалистый характер Сан Саныча, который не растерялся и выбрался из ёмкости с помощью проволоки, верёвки и лыжины, потому что был мороз сорок пять градусов, и он бы там замёрз… на хрен, – хотел написать Баскаков, но написал: – насмерть».
«О! Теперь я понимал, – отвечала Джирджина. – Я ещё приготовила вам вопросы:
1. Почему Сан Саныч не позвонил по телефон, когда упал?
2. Проволока-восьмёрка это модель проволок?
3. По рассказу «Фарт». Пожалуйста переведите в нормальный предложение: «Шнадцатый, как понимашь? Слыхал чо? У «Делимакана» росомага нагрезила: все кулёмки изнахратила, а которые соболя попали, двух схрямкала, а остальных закопала. А потом «косачи» на «мотолабе» проезжали и весь путик на лыжах выгнали. И он после них ходил, как сапёр, еённые копанины раскапывал, а потом по рации ка-а-к трёкнет: «Во до чего дожили с этой нефтью: всю жизнь росомагу падиной считал, а тут вишь – в кормилицы вырвалась!».
Баскаков, откинулся на спинку… Прикрыл глаза, потом расхохотался. Ну как ей объяснить-то?
Баскаков всегда брал быка за рога, и рассказ начинался с фразы, кратко передающей сюжет. У промысловика с позывным «Делимакан» росомаха разорила путик с ловушками, двух попавшихся соболей съела, а остальных закопала в снег про запас. Мимо проезжали работяги из сейсморазведки. Их задачи – таскать к датчикам провода, сплетенные в «косу», наподобие девичьей. Ехали они на вездеходе, прозванным «мотолабой» – от МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный). «Косачи» решили пробежать по путику охотника и ободрать с него попавших соболей, но их опередила росомаха. Всего-то навсего. Ленка проснётся – расскажу.
Переводчице он ответил:
«1. Сан Саныч не позвонил, потому что там не было сотовой связи, да и вряд ли бы он из ёмкости поймал сигнал.
2. Проволока-восьмёрка – стальная проволока толщиной 8 мм.
3. По «Фарту». Даже не знаю с чего начать. Начну с технического, как с самого понятного. «Мотолаба» это – МТЛБ – Light Armured Multipropose Tracked Tractor… – Баскаков сползал от хохота (мультипропёс какой-то!). – Там сложно. Извините… Мне сейчас нужно срочно… – Баскаков собрался с силами, – отойти к соседу, у которого замёрзла машина. Начало рассказа я объясню попозже, а вы пока попробуйте прочитать до конца и – всё поймёте.
Пишите. С уважением – Игорь».
Уже светало и розовато светлело небо. Баскаков подошёл к окну: «Какой же вид великолепный! Только ради одного этого стоит в Тузлуках жить». Лена просила разбудить рано – чтобы подольше побыть вместе. Едва он сварил кофе и поставил на поднос, из-за спины раздалось:
– Игорь, ну почему? Я же просила! – Леночка с непроснувшимися глазами стояла, чуть скосолапя ступни в пухлых тапочках-собаках.
– Что такое?
– Сколько раз я просила не заваривать в кружке, – и она дрыгнула икрой. – Это же мне выковыривать! Иначе всё в раковину выливается, а она засоряется. Ну почему нельзя заварить в чайнике?
– Лен, ну ладно тебе… – пробно сказал Баскаков. Лена была полуночного склада и вставала трудно, долго молчала, а если её тормошили, потешно вскрикивала: «Перестань со мной говорить!».
– Я не понимаю, почему ты так поступаешь!
Баскаков не только заваривал в кружке, но и всякий раз брал новую, и кружки с пересохшим сеном копились на тумбочке, на полу, на столике в коридоре – везде, где он слонялся в сочинительском поиске. Баскаков обожал густой тувинский хан-чай, куда добавлял мёд с верховьев Катуни. Особенно возмущала Лену кружка от этого липкого пойла около дивана на полу: намертво приклеенная, с засохшими следами-кольцами вокруг. Казалось, её проще разбить пинком, чем оторвать.
– Я пойду поработаю, – очень быстро сказал Баскаков, и вышел на улицу огребать снег, который уже был огребён до немыслимости – стояли морозы и сугробы напоминали огромные заправленные койки. Вернулся морозный и в надежде, что сухой хрустящий простор через него охладит и Лену. Действительно, когда он вошёл, она уже спокойно пила кофе. Для закрепления дела он рассказал про Джирджину:
– Ржака, – улыбнулась Лена. Улыбка была замечательная – верхняя губка подворачивалась кверху и чуть задиралась, и посередине между нею и носом получалась необычная поперечная складочка. Розовая рисочка, некоторое время сохраняющаяся, когда улыбка уже прошла:
– И что ты ответил?
– Что мне некогда. Что у соседа машина замёрзла и я помогать пошёл.
– Токо попробуй… – шуточно нахмурилась Лена. – У нас один день за всю неделю. Давай никуда не торопиться, – потянулась Леночка. – Спокойно поза-а-а… – она глубоко-глубоко зевнула, смешно и как-то судорожно окаменев и росисто прослезившись: – Ой, Господи, поза…втракаем…
Сели за стол. Лена съела овсяную кашку на воде и перед тем как приступить к печёному яблоку, замерла и сказала:
– Тут новость. Вчера хотела сказать, но ты заснул.
– Что такое? – нахмурился Баскаков.
– Нас с премией прокатили.
– От тварины… – как бы между делом бросил Баскаков.
– В конце декабря объявили, но я решила не портить тебе Нового года. Ты и так был издёрганный… И решила…
– И решила испортить Рождество.
– Ну тебя, – Лена отвернулась.
– Какого им надо? Я не понимаю, если честно.
– Скотинюги. Я тоже ничего не понимаю.
– Чо-т-то мне потихоньку начинает всё это надоедать, – очень распевно и задумчиво сказал Баскаков. – Только непонятно, почему вся эта раздающая медали кувырколлегия ничего не боится. Хотя оно конечно познавательно.
Лена была моложе мужа и ребёнком в отношении некоторых современных явлений, которые у неё вызывали ощущение отличительной, нательной вроде бы близости. Иные взгляды Баскакова она принимала за «стариковство», и каждый выпад мужа воспринимала как подчёркивание разницы в возрасте. В обострённой же душе Баскакова резь вызывало любое проявление антирусского, и он опасался спутать в Леночке это антирусское с бездумно-молодёжным и техническим. И шёл спор-не спор, но соревнование, которое оба старались обратить в шутку, чтоб не «рассобачиться». Но Баскаков нет-нет да свою позицию подвыпячивал и поддразнивал Лену, хоть та в долгу не оставалась:
– Я всем долдонил, что у нынешних коммерческих издательств есть чёткая идеология, направленная на внедрение западных ценностей в сознание русского человека. Именно этим я и объяснял, что меня не печатают… Но потом я написал очередную бескомпромиссно-русскую вещь, в которой уравнял градус художественности с температурой…
– …колхозной густопсовости…
– …мировоззренческого накала…
– И добился…
– …И долбился в прошлогодние двери…
– И добился такого вектора тяги, что сейчас…
– …в тебя полетит мясорубка…
– …с изменяемым вектором тяги. Теперь мне понятно, кто ланысь провёл запуск беспилотного тестомеса…
– Игорь, я тебя просила! – взвизгнула Лена, не переносящая, когда он произносил старосибирские слова, например, «дивно», в смысле «много», и «ланысь», то есть в прошлом году. Сама притом вовсю говорила «ково», «подсобирываться» и «каляешься» (про его щетину).
– Тих-тих-тих… Дак вот – книгу вдруг взяли в издательстве, от которого я этого не ожидал вовсе. Мгновенно Костя Чебунин направил туда же недоработанную рукопись и его завернули на скаку. Так как справедливая его идея, не подкреплённая характерами и драматургией, настолько голо маячила, что более напоминала пугало для... в общем, напоминала пугало. И он закричал: вот оно! Вот! Идеология! Не печатают из-за идеологии! Но главное, что заблажил Константин Алексеевич ровно теми же словами, которыми ещё недавно блажил и я. О чём это говорит?
– О том, что демагогия профессиональная черта писателей.
– Это говорит о том, что навязанное нам современное мироустройство стоит на всемогуществе денег, и этим всемогуществом всякие штуки вроде идеологий не воспринимаются серьёзно, несмотря на то, что само это могущество примитивно, как расчёты в автолавке. Поэтому никакого единого специального вражьего центра управления внутри нашей страны нет – наоборот, всё сделано так, чтоб никакие центры и штабы не мог решить ничего, а всё автоматически решал механизм – такая центрифужка от стиральной машины, этих туда – этих сюда.
Ещё минуту назад Леночка сама так и думала насчёт «специального вражьего центра», но её возмутил нарочито лекторский тон мужа:
– Прссьь… Чушь собачья! Сразу видно, что ты никогда не стирал рубахи. Культурную политику диктуют конкретные люди. Раньше были Катков и Сытин… А щас…
– А щас понятно. Но им не обязательно объединятся в штаб-ссс! – Баскаков смешно надул валиками губы и по-мышиному пискнул, выпучив глаза. – Хотя они не могут без помощников, и тут-то начинается самое интересное. Оказывается, несмотря на всю безыдейность денежного мироустройства его сподручниками выступают силы, которые всегда были самыми идейными – например, так называемая интеллигенция, выродившаяся до такой степени, что уже не кипит идеалами, а глухо и ватно блокирует всё, что не подпадает под её ценности. Это могут быть бывшие редакторы всяких «Либрикусов», когда-то крайне мягкие и вкрадчивые дамы, искушённые в «хорошей литературе», и прочая околохудожественная челядь, включая самих писателей, выпестованных этой средой и в неё вросших. И представители этой силы, будучи полнейшими нерусями по духу и, что самое возмутительное – уже независимо от породы – настолько обнаглели и сами себе изнравились, что считают хорошим тоном называть своими именами редакции; «редакция Норкиной», с претензией, с одной стороны, на нечто купеческое, промышленное, пушное, а с другой – на эксклюзивно-личное, именное, подчеркивающее, что попасть сюда – особая честь. И каким-то образом это шобла, объединённая, сложносплетённая и связанная и с редакторами, и «жюрями» премий, начинает пестовать писателей, выбирая их подчас самым неожиданным образом… Причём пестуется любое направление! Любое! Лишь бы отвлекало от главной темы!
Баскаков глянул на Леночку и тут же громко и протяжно-угрожающе спросил за неё:
– Какой?
– Что какой? – вздрогнула Леночка, которая тайком подглядывала в свой будуарного вида экранчик.
– Какой темы? А вот какой: русский человек в наши дни! Да! И уже придумано два метода: уход в проблемы других наций, и эскапады в прошлые эпохи, оправдываемые демагогическим рассуждением о том, что, разобравшись в прошлом, мы, дескать, правильней поймём настоящее и заложим будущее. Поэтому я моментально стану самым облизываемым писателем, – «обли-зы-ва-ем-ым» он произнёс по слогам, – если напишу роман э-э-э… «Р-р-роман-Магадан», – раскатисто произнёс Баскаков. – «Р-р-роман-Магадан» о… злоключениях лопарских шаманов в Колымских лагерях. Потом его командно переведут на все языки, поскольку в нём будет показано безобразное и бесчеловечное русское государство и стоящий его бесполезный русский человек. – Баскаков наморщился и сказал растерянно: – Да, только я всё это вёл к чему-то…
– К литературным дамам, которые не стали тебя облизывать, – язвительно сказала Леночка.
– Ну не только к дамам, – Баскаков удовлетворённо кивнул, – а вообще к этой публике, которой, несмотря на весь гуманитарный лоск, особое удовольствие доставляет лезть именно к самому заповедному, и даже прикасаться своими холёными лапами к Сибири и Дальнему Востоку. Я тебе прочитаю один любопытный материалец, опубликованный в дальневосточном журнале «Охота и литература». Потерпишь? Он короткий.
«Друзья, сразу скажу, что от слов «автор» и «текст» меня всегда коробило. Они казались кощунственными, конторскими и свидетельствовали о падении культуры. Действительно: как же так – были писатель и литература, а стали автор и текст?».
– Очень оригинально, – фыркнула Лена, – дальше так же интересно будет?
– Да слушай ты! Не перебивай! «…Потом я понял, что такое разделение позволяет называть вещи своими именами. Недавно попалась мне в руки нашумевшая книжица одного как раз автора. Он пишет о нашей прекрасной приохотской тайге, с которой его связывает единственная ассоциация – самая страшная, самая трагическая страница истории нашего Отечества в двадцатом веке, рана, еле начавшая рубцеваться: гражданская война на Дальнем Востоке. Судя по всему, больше ему о Хабаровском крае сказать нечего.
Тем не менее книга весьма познавательна, так как из неё мы узнаём о сенсационном научном факте: он следует из одной скупо оброненной, но ключевой фразы: американские купцы скупают в Аяне «песцов, белок и куниц». Да. Ни больше ни меньше. Далёкая западная куница, обитающая в Европейской части России, совершает невиданную миграцию на Дальний Восток, продвигаясь вместе с театром военных действий, и доказывает в очередной раз, что жизнь природных систем находится в теснейшей взаимосвязи с социально-политическими процессами в России. Но это всего лишь, что называется, полдела. Хороша, как говорится, куничка, да не про то страничка! – Баскаков восторженно взглянул поверх очков: – Появление куницы приводит к полному вытеснению ею соболя и тотальному падению его заготовок, о чём свидетельствует всё тот же приведённый автором перечень. А поскольку именно соболь во многих районах Сибири и Дальнего Востока является важнейшим экономическим и укладообразующим ресурсом, как для коренного и малочисленного населения Севера (в дальнейшем – КМНС), так и для русского, то эти изменения не могли не привести к серьезным последствиям как для природы, так и для жителей этих удалённых районов».
– Ой зануда какой! – прозудела монотонно Лена. – Игорь, ещё долго?
– Чем больше ты будешь перебивать, тем дольше я буду читать. «…Вы мне скажете: а как же харза, уссурийская куница? Не принимается! Как говорится, «хочется добыть пушнинку, да придётся порвать спинку!». Ареал харзы находится далёко к югу, к тому же харза не относится к массовым видам и не является экономически значимым объектом пушного промысла. Как говорится, «не та харза, что борза, а тот калан, что делает план».
– Кто такой калан?
– Морская выдра. Так вот: «…Надо отдать должное скромности автора, который мастерски замаскировал своё открытие, переключив внимание читателя на посторонние вещи, для чего не поленился развернуть целое повествование, протерев не одни штаны в архивах – и всё ради одной единственной фразы… Но как говорится: «За одного соболька дают белок два кулька!».
Да… Другой бы стал своё открытие выпячивать. А этот лишь скромно обозначил – имеющий уши да слышат! А ведь сколько в этой фразе смыслов: возьмём хотя бы первый попавшийся, так сказать, лежащий на поверхности: вытеснение к востоку куницей-западницей славянофила-соболя. Или вот: баба-куница, озверевшая от отчаяния, пошла боем на соболя-мужика и столкнула его в Охотское море. А можно и так: Запад пошёл походом на Восток, и автор предупреждает нас об опасности, уже не деля на КМНС и русских. Остаётся гадать, сколько невспаханных смыслов лежит под спудом лаконичного афоризма! Не зря говорят – краткость сестра таланта. Зимний денёк короток, да кормит роток, так сказать, весь годок!
Можно ещё долго ёрничать, но пора поставить всё точки над этим самым «ё»: тему-то не раскрыл. Обозначил, поманил, но не раскрыл. Видать тяму не хватило. Тут архивной задницей не обойдёшься, тут пока хребёт в тайге не надорвёшь – ничего путнего не выкопытишь. Как говорят промысловики: «Хорош соболёк на пялке, да поди сыграй с ним в догонялки!».
– Сколько можно слушать это занудство!? Ладно если б я была какая-нибудь грымзятина из клуба охотничьего собаководства…
– «…А теперь эмоции в сторону и сообща подумаем: почему, несмотря на такое вызывающее нераскрытие темы, книга всё-таки вышла в одном из ведущих столичных издательств и собрала множество литературных премий? А ответ прост. Книга была издана не абы где, а в «Редакции госпожи Норкиной». Ничего не замечаете? Есть нечто, подозрительно роднящее издательство и изданную в нём книгу? Совершенно верно! Те-ма. Пушная тема! И ничего, что она не раскрыта! Пролезет! Какая художественность! Какие народность и доказательная база! Это пустяки. Главное формально обозначить – и дело в шляпе. А в шляпе ли? Может быть в шапке? Или в воротнике? Или в муфте? Или даже в… гор-жэ-э-этке? – артистически протянул Баскаков. – Подводя итог, хочется вот что сказать. А не пора ли навести порядок в нашем обществе? Подумать, кто и по какому принципу формирует у народа представление о цвете современного писательства? И долго ли вместо качественной корневой литературы будет предлагаться читателю её клеточный или искусственный заменитель? А будет! Будет – пока во главу угла издателей и их авторов будет ставиться не искреннее служение русской словесности, а… шкурные, интересы узкой шайки московских литераторов. Которым так же далеко до Сытина, как их авторам до истины, а нам с вами до сытости. Извиняюсь за каламбур.
Как говорится: «Не та куница, что критика боится, а тот соболёк, что читателя увлёк».
– О-о-о... – зарычала Леночка, – где ты это выкопал? Тебя прямо так и тянет ко всякой заскорузлой тягомотине… Тебя и не печатают из-за неё. Не можешь шаг сделать навстречу читателю… Помнишь, как какой-то весельчак из модного журнала хотел опубликовать твой рассказ, и сказал замечательные слова: «Ты слишком «там». Переделай и напечатаем». Ты конечно не переделал.
– Можно я тебе прочитаю письмо? Ка-ак раз про «там» и «тут». Женщина пишет, директор районной библиотеки, Людмила Иванна.
«Дорогой Игорь Михайлович, читала ваше интервью, где корреспондент с горечью говорит о том, что ваши книги выходят значительно меньшими тиражами, чем того заслуживает масштаб вашего дарования. Как библиотекарь хочу это подтвердить и сказать: дарование ваше яркое, самобытное, а главное, близкое людям. Вы подаёте свой мир… да не свой, а наш обычный русский мир, как нечто само собой разумеющееся, единственное, а по нынешним правилам, заданным горсткой далёких… недалёких людей, требуется некое извинение, усмешка, означающая: «Конечно же, вы и ваш мир – главные! И я такой же или очень стремлюсь на вас походить, но всё-таки посмотрите, как разнообразна иногда жизнь».
Вы рассказали, что редактор журнала, который нынче руководит самой большой денежной премией, сказал, прочитав вашу первую повесть: «Вы хорошо пишете, и вас с удовольствием возьмут в любом другом журнале… А что касается нас… То, как вам сказать-то? Слишком уж явно у вас получается: там всё настоящее, а здесь – нет».
А в нашем с вами мире говорят по-русски, живут трудно и как-то копотно, и любят свою землю независимо от того, водитель ты самосвала, руководитель завода электродатчиков для буровых (знаю такого) или библиотекарь. А все эти далёкие-недалёкие для них не более чем горстка дармоедов, ничего не знающая о своей стране и обслуживающая интересы книжных дельцов. И когда они открывают вашу книгу, из которой валит морозом и где рёв тягача мешается с колокольным звоном, то они начинают испытывать комплекс неполноценности: больно неуютно им на ваших просторах.
Я вас уверяю – вы талантливы, у вас прекрасный язык и глубокие характеры. У вас есть всё, и если добавить извиняющуюся улыбку – вы давно были бы с ними. Но тогда… зябко стало бы нам…» – голос Баскакова дрогнул.
– Хм, – с задумчивым удивлением сказала Леночка, – хорошее письмо. Что это за директор?
– С этого… забыл… Неважно… Важно, что тут и там – это география страны, а речь о географии духа, потому что линия раздела пролегает через души. А тот человек, который говорил, что там настоящее, а здесь нет, до сих пор ничего не понял. А простая женщина всё расставила по местам: важно не где ты, а с кем.
Лена пожала плечами.
– Всё равно, дело не только в них. В тебе тоже.
– Не понял? Ко мне-то какие вопросы? Обожди. Вот тут ещё один материал.
Леночка только пожала плечами.
– «Фарт – старинное промысловое слово»... – вступает Игорь Баскаков к своей книге с одноимённым названием. Вступает невозмутимо, будто не замечая, насколько архаично звучит такое вступление», и те-те-те… – пропустил Баскаков. – «…Да, действительно несусветными соболятниками и золотарями веет от этого слова. И пусть оно изначально и одесское блатное… «Но! – восклицает автор. – Как же бесцеремонно выморозила из него Сибирь изначальный смысл и наполнило своим, трудовым, таёжным, народным!».
Почему же автор назвал так книгу? Ведь рассказ с одноимённым названием не является центральным. С него лишь начинается новый сборник прозы писателя.
Рассказ будто иллюстрирует народную мудрость, что худой человек хуже иного зверя. Построен он на анекдоте: пакость росомаха, злейший враг охотника, «зарящая» ловушки, становится невольной его помощницей. Не в состоянии сожрать богато попавших соболей, росомаха зарывает их в снег и спасает от работяг-экспедишников, проезжавших по участку охотника на вездеходе и решивших проверить ловушки и собрать чужую пушнину.
Случай вопиющий, но, по-видимому, вполне реальный. Соболей потом находит охотник, распутав следы росомахи. Новая роль таёжной разбойницы по-своему забавна, а вот картина вымершего радиоэфира в тайге, когда звучит лишь китайская речь, – наводит на грустные размышления. Для справки: несколько лет назад радиовещание ведущих станций убрали с обычных частот и перевели на ультракоротковолновый диапазон, доступный только в городах и их окрестностях.
Но автор будто предостерегает: «Пессимизма не будет! Ни на тех напали», и тому пример невозмутимый и неунывающий Сан Саныч из рассказа «В лесу родилась ёлочка». Под Новый год он отправился за ёлкой и провалился в ёмкость на территории расформированной военной части, откуда выбрался по всем правилам народной смекалки. И без пресловутых воспоминаний о не так прожитой жизни. А ведь перспектива не самая весёлая: пятьдесят градусов и звёздочки в круглой амбразуре над головой!
За бодрой новогодней «Ёлочкой» следует самый грустный в книге рассказ с говорящим названием «Последний путь». В его основу взята традиция: когда несут умершего на кладбище, на дорогу бросают ветви пихты. Рассказ будто продолжает ряд «Последних»: «…свиданий», «…срока» и «…поклона» и провозглашает «непоследнесть» и наследность всего последнего, и одновременно расставляет литературные бакена Баскакова: Бунин, Астафьев, Распутин. Пересказывать рассказ бессмысленно и даже кощунственно. Но кратко, очень кратко фабула: одинокий и ещё очень крепкий пенсионер из северного посёлка знакомится по переписке с пожилой женщиной из-под краевого центра. В этом центре они и встречаются и решают жить вместе: у Андрея Палыча на севере большой дом, хозяйство, да и руки крепкие – ни сетей в мороз не боятся, ни топора, ни лопаты. Галина Ивановна продаёт дом и участок, садится на пароход и приезжает… на похороны. Тромбоэмболия лёгочной артерии… Пихтовыми ветками выстеленная дорога на кладбище. И отступление об этих ветках… Собственно, на образе этих веток и держится рассказ. А начинается с того, как рассказчик едет по зимнику и зимник «из ходовой и безлюдной трассы превращается на короткое время в главную улицу посёлка, в которую вдруг впадает, вливается усыпанная пихтовыми ветками дорога, а потом так же неисповедимо её покидает. Ветки, стеклянно хрупкие на морозе, размолоты проехавшими «Уралами». Кажется, будто их оборвало ураганом»… И снова освещённый фарами укатанный сахарный зимник, по которому рассказчик едет дальше и вспоминает историю Андрей Палыча и Галины Ивановны. А финал такой: после похорон все идут на высокий речной угор. «А когда бескрайняя даль вытянула из глаз, приняла на серебряные свои плечи людское горе», внучка Палыча, маленькая Алёнка взяла Галину Ивановну за руку и сказала: «Пойдём, бабушка, домой».
«Последним путём» писатель будто подводит черту, кланяется в ноги учителям, и нарочито ученическая простота рассказа оправдывается строжайшей и родниково-чистой интонацией, в которой, как в куске нежно-голубого неба после грозы, есть что-то прощальное.
Рассказ с говорящим названием «Весы» про директора завода, разработавшего точнейшие весы для взвешивания вагонов, которые так и оказались не востребованы железной дорогой – точность никому не нужна.
«Вечный огнь» автор посвятил памяти Василия Шукшина. В мороз что-то случилось с подачей газа в Вечном огне на городском бульваре, а подвыпивший герой попытался устранить непорядок и сунулся туда с зажигалкой. Газ рванул, и человек чуть не обгорел насмерть.
Герой рассказа «Дворник» малоизвестный сочинитель, не участвующий в писательской жизни и живущий не то как святой, не то как юродивый, не то как солдат. Особого сюжета в рассказе нет, и держится он на финальном монологе, который не привожу – прочитаете сами. А так – что можно сказать о герое? Живёт в попытках разобраться в происходящем с Россией, успокаивает себя примерами из других эпох, когда казалось, что Россия кончилась, «а она не кончалась, и только нынешнее положение казалось особым, и он не знал: собственные ли это сомнения в силе России, или по правде времена небывалые, требующие особой верности. И жил верно».
«В проголландском самодурстве первого императора при всей безобразности попрания русского – была своя рациональная, личная, а главное понятная логика, в то время как нынешняя логика настолько спутана, что надежды на подъём внешней силы России становятся бессмысленными на фоне целенаправленной измены не только национальному и историческому, но порой и попросту здравомысленному». Действительно, редкие времена порождали столько загадок, догадок и упрёков власти в несамостоятельности.
Ну и конечно главное место в книге занимает повесть «Лествица». Героем автор сделал священника, который возвращается в родной посёлок, где возводится деревянный храм. Отец Александр участвует в заключительном этапе стройки: ему достаётся изготовление двупролётной лестницы на колокольню. Желающий видеть выражения Православия в каждом штрихе жизни, он предлагает свой план лестницы: количество ступеней должно совпадать с числом заповедей Христианства и числом заповедей Блаженства. По проекту предполагается четырнадцать и тринадцать ступеней, а он хочет десять и девять. Строители против – отклонение от проекта. Начинается обсуждение с Благочинным, который опасается, что такое совпадение будет означать попрание заповедей стопами, но отец Александр твердит, что совпадение не означает буквального уподобления ступеней заповедям, что количество ступеней будет просто по их числу. Отец Александр проявляет недюжинное упорство и убеждает Благочинного, а строители попросту машут рукой: «Делай, как знашь». Времени мало, да и денег как обычно не хватает.
В рассказе подробно и с любовью описано, как батюшка работает, выбирает пахучие сосновые плахи на косоуры, как рассчитывает проступь (слова-то какие забытые, чудесные!), готовит каждую ступень, врезает. Даже какие на ней сучочки...
Храм построен, и уже несколько лет идут службы. Помогает отцу Александру пономарь Геннадий и клирос, состоящий из нескольких женщин. Взаимоотношения отца Александра и церковных женщин составляют одну из линий повествования, в которое вмешивается одно событие: батюшка, однажды искупавшись в Катуни, заболел ангиной и получил осложнение на сердце. Здесь Баскаков остаётся верен себе – другой бы обязательно сделал батюшку ещё и спасителем тонущего ребёнка.
Сибирский климат, резкие перепады давления – нелёгкая доля выпадает отцу Александру, который особенно серьёзно относится к звону и нередко сам поднимается на колокольню. Однажды он едва не теряет сознание.
Мороз, Чуйский тракт с проносящимися тягачами. Батюшка, для которого служба в любой момент может превратиться в подвиг.
Финал составляет описание Рождественского богослужения, которое батюшка проводит один, потому что пономарь слёг с гриппом. «С вечера сильный мороз даванул, и тяжко батюшке – давление полезло, одышка». Трудно говорить, не то что петь. И «как тропка, набитая по крепкому январскому снегу», привычное размышление: остановить службу или нет? «Славная кончина для священника отдать Богу душу на службе». И что верней: умереть или довести службу? И каково людям будет, если он… грохнет? Извечный вопрос: служение Богу и служение людям? Спасение своей души или спасение мира? И правомочно ли противопоставление?
Службу батюшка доводит и идёт звонить. Девятнадцать непреодолимых ступеней. На каждой останавливается отдышаться. Вспоминает, как рубил их тем летом… видит каждый сучочек – как раз напротив лица… Никогда так внимательно не всматривался… в прошлое.
Поднимается на колокольню и начинает осторожно раззванивать промёрзшие колокола. И несётся по-над Катунью, над дивным Алтаем этот звон – звон жизни, звон победы духа над плотью, звон нового рождения человека и Рождества Христова. Прихожанки всё видят, всё понимают, и одна из них говорит тихонько: «Что-то отец Александр раззвонился сегодня…».
Таким образом, книга состоит из семи произведений, написанных породистым русским языком, с доскональным знанием народной лексики, в которой чуткие к слову сибиряки творчески преобразуют подчас нелепые реалии современной жизни. В рассказах даются правдивые образы… Отставить! Отставить, господа… Давайте лучше попробуем выписать в столбик содержание книги:
«Фарт»
«В лесу родилась ёлочка»
«Последний путь»
«Весы»
«Вечный огнь»
«Дворник»
«Лествица».
Ничего не заметили? Чего? А того, что книга являет собой архетипическую лествицу, каждый пролёт который символизирует ступени духовного становления личности. Человек, ставящий ловушки («Фарт»), человек, попадающий в ловушку («В лесу родилась ёлочка»), дорога жизни и осознание конечности земной участи («Последний путь»), взвешивание и, так сказать, обдумывание выбора пути («Весы»), ну и… путь наконец выбран, состоялась передача огня («Вечный огнь»), охрана огня («Дворник»), и наконец образ лестницы, объединяющий практическое созидание и духовное восхождение. Вот такой предложил нам Игорь Баскаков ребус, и смысл его открывается только по прочтении книги, вектор которой можно сформулировать так: от слепой удачи к Божьему промыслу. Что ж, неплохо напромышлял наш автор безо всякой росомахи, так что теперь остаётся пожелать и самой книге литературного фарта».
– Хм. Кто это написал?
– Струкачёв.
– А ты разве… действительно так задумывал?
– Да вообще ни ухом... ни духом.
– Интересно. Нда… – Лена покачала головой. – Не утро с мужем, а редколлегия альманаха «Бережок»…
Лена порылась в своём экранчике, а потом вдруг оторвалась, пристально посмотрела на Баскакова и сказала намеренно артистически и, что называется, нараспев:
– А скажи-ка, пожалуйста, как та статья называется? Про куничку. А? Фартовай ты мой! – Лена вскочила, подбежала и стала лупить Баскакова по круглой его голове: – Гад, гад, гад! Говори, подсвинок, ведь ты это написал?! Ты? Ты? Надул как дуру. Какой ты твёрдый, чу-гу-няка! Руку отбила… Та-ак… – Лена открыла рот и остолбенела… – А библиотекарша? А этот Стручков?! От ведь овечка!
– Да я разве так напишу? Я просто к чему всё это вёл, – начал отворачивать Баскаков, – к этой премии! Что даже хорошо, что не дали, на кой леший она спёрлась, эта премия? Ну вот скажи! Скажи, зачем она нам нужна? Прямо по пунктам: один, два, три… Давай только серьёзно…
– Ты что, придуриваешься?
– Я не придуриваюсь. Мне по правде интересно.
– Прппсь… – фыркнула Леночка. – Но только серьёзно. Да?
– Да.
Она снова подошла, стала Баскакову за спину, занесла кулачок над круглой баскаковской головой и стала объявлять, на каждом слове отстукивая по черепу, как по кафедре:
– Во-первых (удар), тебя (удар) пустят к трибуне. – На слове «трибуна» она шмякнула особенно сильно. – Во-вторых, о твоей книге на всю страну объявят в новостях. В-третьих, тебя будут печатать в совсем иных количествах. И, в-четвёртых, тебя будут переводить.
– Хорошо, – покладисто сказал Баскаков. – Редколлегии не повториться. Но раз так – я тебя сейчас разнесу по всем кочкам. На спор? На что спорим?
– Кто проигрывает – моет посуду.
– Не-е-е… – таинственно-тихо, умудрённо и немного по-ягнячьи проблеял Баскаков и помотал головой. – Не так. Если я выигрываю, я сколько хочу завариваю чай в кружках и говорю старинные слова.
– Не-е-е… – в свою очередь проблеяла Леночка. – Если ты проигрываешь, то покупаешь мне…
Баскаков насторожился. Лена, глядя куда-то впереди себя и чуть улыбаясь, произнесла негромко и отчётливо:
– Посудо... моечную… машину. – И протянула ручку: – Идёт?
– Ладно, – пожал плечами Баскаков.
– Но только все четыре позиции. Я их записываю.
– Да. И спор заканчиваем однем разом. Без переносов на вечер. Вот… – он посмотрел на стену, – до двенадцати. И без этих… А то я тебя знаю. Начнёшь юлить. И речь только о книге «Фарт», выставленной издательством на премию.
– Что-то многовато условий. Ладно. Согласна. Только тогда… э-э-э… шестьдесят на восемьдесят пять. На двенадцать комплектов. – И добавила полувопросительно-полуутвердительно: – С йонообменником и… предполоскателем.
– Ладно, с полоскателем. Ну что, поехали? Что у нас там? Трибуна. Кхе-кхе. Чтобы попасть к трибуне….
– Стоп-стоп-стоп! – закричала Леночка. – А если два на два ляжет? Что я скажу: отпилите мне полмашинки?
– Так… Ну да… – Баскаков сморщился и сосредоточенно почесал у глаза. Такое выражение у него было, когда приходилось соглашаться, подозревая о подвохе. – Тогда придумывай пятое достоинство премии!
– Да запросто.
– Ну-ну. А я пока подумаю. Только давай… не тяни резину…
Леночка было открыла рот, но задумалась, а потом сказала:
– Ну… это повысит твою репутацию среди литераторов.
– Ничего подобного. Наоборот, все только отвернутся. Скажут: «Да-а-а, Баскаков… Чо-т-то в фаворе ты у либералишек».
– Так-так-так… – Лена не на шутку нахмурилась. – Ладно, я пока посижу… – Покачала головой: – Анекдот. Не знаем, на кой премия!
Лена, сидела, кряхтела. Бледненькая, сероглазая, посмотрела на Баскакова с беспомощной улыбкой, так что губка завернулась, а когда легла на место, над ней зарозовела поперечная рисочка. И вдруг хлопнула себя по лбу, подскочила:
– Овцизна! Мы же деньги получим!
– Ну да, – сосредоточенно сказал Баскаков и подумал о том, что, если большой тираж ещё можно вывести вничью, то тут явный гол. – Ладно, поехали.
И начал говорить медленно и будто диктовать:
– Для того, чтобы попасть к трибуне, не надо получать премии – раз, – сказал он аукционно, и вдруг крикнул, взглянув на Лену: – Стоять! Причём тут пятая позиция? Мы разве с ничьими играем! Я же должен всё отспорить. Чо ты тут путаешь сидишь!
Леночка помалкивала.
– Убирай давай пятую позицию к бабаям, – быстро сказал Баскаков.
– Что-о-о-о? А что это я её буду убирать, когда эта самая главная, можно сказать единственная даже позиция, остальные так… абстракции. Ничего мы не будем убирать. Шевели давай полушарьями или… сразу мойку гони!
– Ладно, – будто предупредил Баскаков и снова задиктовал: – Дорогу к трибуне надо строить – и это отдельная работа – два. И коло трибуны надо жить – три! И это ты сама мне говорила, когда подбивала свалить в Москву, – четыре. А пять: для настоящей художественной прозы нужен затвор. Ну что – один ноль?
– Ну допустим, – согласилась Леночка. Она была полностью уверена в тиражном, переводческом и финансовом пункте, и опасалась только неожиданной помехи, вроде каких-нибудь гостей или аварийного фортеля Подчасовой, которая сидела на даче неподалёку. Поэтому, зная риторические способности Баскакова, она рвалась к беспроигрышной дальней части.
– Чо у нас там дальше? – развязно спросил Баскаков, и почесал спину о стул.
– Тебя покажут по телевидению в новостях, ты попадёшь в… медиа-пространство, то есть будешь на слуху, и все коммерческие структуры заинтересуются тобой и предложат сотрудничество…
– Ерунда. Раз показали и забыли. Чтобы быть на слуху, нужно из кожи лезть и напоминать о себе. И сколько сейчас знаменитых людей, которых и близко к телевизору не подпускают! Самый несерьёзный из доводов. Плюс тебе всё равно не дадут сказать, что думаешь. А если сдуру дадут, то так смонтируют твоё выступление, что будешь конченный обалдень. Принимаешь?
– С натяжкой.
– Так-то. С этим разделались. Что у нас? Переводы. Дак вот, я категори….
– …Подожди! Какие переводы? Чо ты прыгаешь? Сейчас третья позиция – большие тиражи.
– Я хочу сначала с самыми трудными разобраться. Пока не устал. А потом уже со всякой ерундой.
– Ты жухлишь!
– Не понял. Мы разве договаривались, что я обязательно по порядку иду? Ну и всё. Так вот я ка-те-гори-чески… – он снова задиктовал, – против перевода на европейские языки вещей, где есть рассуждения о состоянии сегодняшнего общества в России.
– Почему?
– Потому что не хочу выносить сор из избы.
– Что за сор такой?
– Ты не знаешь, что такое сор? Объясняю. Муж пришёл с праздника с подвыпившими друзьями. Жена вместо того, чтоб улыбнуться и накрыть стол – устроила скандал. Сначала фыркнула. Потом – бумкнула пару тарелок с закусками. И вышла. Муж попросил как-то… ну поприветливей быть. А та, не стесняясь малознакомых людей, начала кричать, припоминать что-то совсем личное, что только их касается… и…
– Ну она просто невоспитанная.
– Ну вот. Значит, за границей большой спрос на невоспитанных писателей из России.
– Причём тут заграница? Это всё на их территории было. Незачёт.
– Лэдно, – тонко и покладисто сказал Баскаков, – давай так. Мужик пил два дня, баба бузила, получила в нюх… – и Баскаков сменил тон на эпический: – Но вот нужно идти в гости к соседям. Те – обеспеченные, надутые и жадные до чужого горя люди, с которыми натянутые отношения. Оба причипуриваются, пшикаются и идут. А там уже сидит такой вертлявый и падкий на закуски обморок, который пришёл без жены, потому что её стесняется, но зато жрёт за двоих и рассказывает, какая скотина тёща…
Лена закатила глаза, шумно выдохнула и резанула:
– Ну и сиди на своём соре задницей. Может, чо высидишь. Только когда ты узнаешь, кто на западе из русских писателей в почёте, ты сам в обморок рухнешь! Обморок… – она покачала головой.
– Лена, – сказал Баскаков твёрдо, – ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Да. Я склоняясь перед твоим доводом, он сильный, но всё равно – есть вещи… – и махнул рукой. – Я вообще не ставил цели переводиться, мне наш читатель в сто раз важнее. Ну смешно это всё в переводе звучит, дико, ей-Богу! И половина смысла пропадает.
– Кажется, немец один сказал, что всё, что в книге непереводимо, можно оставить за скобками.
– Ты знаешь, оно может и так… – покладисто и не спеша заговорил Баскаков, – но есть Достоевский и Чехов, – и он продолжил, понизив тон, – а есть Лесков и Бунин...
Лена стрельнула глазами на часы, как урядник из «Захара Воробьёва».
– Хотя немец может и прав. Но кроме одного-единственного случая, знаешь какого?
Лена вопросительно подняла лицо.
– Когда язык... является… главным… героем… повествования, – непробиваемо сказал Баскаков, на каждом слове глубоко кивая головой. И продолжил: – Хотя я согласен, что надо распространять за границей образ мощной России и буду над этим работать!
– Ты баскак, Бара…
– Я не Баранов! – закатился Баскаков.
– Ты баран, Баскаков! Я жалею, что с тобой связалась. Хотя уже поздно. Чо ты резину тянешь? Ну что? Что там у нас с тиражами?
– Большие тиражи не дают совершенно ничего, – нагло вывез Баскаков. – Помнишь, что мне сказали про путевой крест на обложке книги? Что крест, стоящий у дороги, «у части покупателей может вызвать негативную ассоциацию с авариями на дорогах». Полный бред. Хотя у выживающих людей возможны фобии на почве борьбы за коммерческий эффект… Так вот, внимание, уделяемое обложке, говорит о том, что покупателя завлекают. То есть предполагаются случайные читатели, которые, позарившись на эффектный вид, книгу купят, а читать, возможно, и не станут. Разве только первые страницы. И количество этих обманутых читателей тем больше, чем больше что?..
Лена уже не отвечала.
– …Совершенно верно – чем больше тираж. Поэтому количество тиража совершенно не означает, что произведение достигло цели – то есть поддержало страждущего или изменило его душу. Следовательно, небольшой тираж – верный способ защитить покупателя от обмана, а страну от растраты бумаги. Ведь это всё-таки ле-е-е-с… а не баби-Манин-малинник… – протянул Баскаков. – Поэтому я бы обязал издателей: для всех книг – белую обложку. И без букв. Купил – и купил. Зато честно.
– Чушь собачья. Незачёт. Да и там тоже незачёт. Я сразу не сообразила... Чо ты мне втирал с этими переводами? Про сор из избы…
– Я всё чётко разложил. И про сор. И про сыр. И про бор, который на бумагу скосят.
– Какой сыр? – Леночка начала раздражаться. – Ты что серьёзно? Баскаков, я просто поражаюсь! Как можно быть таким тонким в книгах – и в жизни таким стоеросовым! Ты же знаешь, что всё сложнее! Если художник начинает жеманничать, что-то скрывать, занимается оглядками – ему полный кириндык. Литература – это не застолье! Это исповедь.
– Да перед кем исповедь-то? – рявкнул и махнул рукой Баскаков. – Перед соседями? Не мечи бисер…
Вдруг зазвонил телефон Баскакова.
– Ково лешего несёт! – взорвалась Леночка.
– Перед свиннями… Да, на связи, братка, – собранно заговорил Баскаков. – Дома. Да погоди ты! – прицыкнул он на Лену, прикрыв трубку. – Едрё-ё-ё-ё-ный пуп! Ну вы даёте. Кто же так делает? Только с ключа сейчас. Да, на мази... По-моему, даже заправленная. Добро. А куда вы денетесь! Х-хе. Давай.
– Скажи – не можешь!.. – вскричала в отчаянии Леночка. – Заболел свинкой!
Сор из избы
Позвонил Костя Чебунин, и сказал, что у него Михайловы проездом из Сросток, что Тане Михайловой нужно срочно в Прокопьевск, и что машину заводили в мороз с сигналки и, по-видимому, залили. Баскаков сгрёб брезент и паяльную лампу и ушёл на подмогу.
Костя Чебунин жил на обособленном отъярке, отделённом двумя оврагами, где морозный ветер задувал и закручивал особенно свирепо. Когда-то Костя привёз с карьера серого гранита и увалил им угор. Машина – серо-стылого цвета «сурф» – стояла на этих камнях, немного вверх мордой – как памятник самосвалу у гидростанции или Колькиной «аме» на Чуйском.
У Кости шла гулянка. С Михайловыми приехал ещё здоровенный казачина в штанах с лампасами и синем бешмете. У него были широченные щёки и сложного устройства растительность: густые усы с подусниками и щетинистое щёчное поле: они соседствовали как лес и тальники. Сам весь пышущий, сопящий – целый завод. Такие обильные, грузные люди устроены трудней обычных – кажется, им нужны особые механизмы для управления массой. Своя гидравлика, пневматика… То потом покроется, как градирня, то остынет, стравит пар.
Компания моментально попытались затащить Баскакова за стол, но он отказался и пошёл работать. Вывалили помочь – Баскаков прогнал, чтобы не мешались, и оставил только Костю – помочь обвесить машину брезентом. А вскоре и его отправил:
– Иди гостей развлекай. Надо будет – позову.
– Ну а…
– Не-не-не… Я не пью до Праздника. Давай-давай… Не отсвечивай тут. Хе…
Уже нагнало мутно-сизую хмарь, но мороз не спешил сдавать. Всё было серо-чёрно-белым. Судорожно дрожала выдутая травка. Ветер драл брезент с ружейным хлопаньем. У Кости топилась баня и дым срывало с искрами и наваливало на Баскакова, добавляя беспорядка… Спрятавшись за ветром с паялкой, попытался налить бензин в ванночку – игольно-тонкая струйка засеребрилась бодро, но тут же заметалась, плоско скособочилась и опала. Баскаков плюнул и пошёл к Косте за проволочкой. Там будто намагничено было, чтоб его зазвать: все разом обернулись и с горластой силой потянули за стол. Он каменнороже вызвал Костю и тот нашёл кусок многожильного провода. Зачистили ножиком. Обнажённые жилки замахрились, как кисточка. Баскаков снова нырнул в упругий и обжигающий ветер и засел с паялкой. Перчатки мешали, и пришлось с одной руки снять. Мокрая от бензина, она резиново тянулась.
Проволочный венчик был из сталистых волосин. Анестезия бензина и ветра так сильно работала, что он не заметил, как наколол палец, стыло-чужой. Долго попадал в отверстие форсуночки, но наконец прочистил, и бензин брызнул родниковой нитяной струйкой и наполнил копчёную ванночку. Кровь капнула и разбежалась по дегтярному озерцу. Баскаков поджёг. Колыхаясь, рыжее пламя затрепетало, наконец и форсунка запела турбинно – сначала плевалась длинным рыжим хвостом, потом рыжину подобрала и осталась прозрачная – чем жарче, тем незримей – синева у сопла, побелевшего до солевой седины. Установил лампу под машину, завесил юбку, долго поправлял её на звереющем ветру. Стянул перчатку со второй руки – пальцы-крючки не чувствовали. Загрёб снегу и стал растирать. Сел в проколевший салон. Глянул на мёртвый бортовой экранчик, потом на свои руки: смесь крови, копоти и снега.
Едва отогрелся, полез проверять лампу. Мелкий, еле сеющийся снежок рябел на фоне серого гранита. Лампа ракетно гудела, под машиной за юбкой было жарко и чадно. Но не оставишь без присмотра. И снова сидел в ледяном салоне и думал о чувстве границы. Где-нибудь в тайге нет подмоги, а тут вот она – за дверью. А так же недосягаема. Самое трудное – в миру рубеж держать.
Баскаков уже открыл капот и вывинчивал свечи, жалея, что не огрел стопарёк самогонки. Отошедшие пальцы ломило. Ветер пронизывал насквозь, и он чувствовал себя огромным беспомощным ситом.
– Соседушка, не побрезгуй! – вдруг раздался громовой окрик, и на крыльцо вывалил без шапки и в бешмете широченный казачина с подносом и белым в красный ромб рушником. – Не отврати! – С подноса ветер урвал кусок хлеба. Повалилась бутыль. Подошед к Баскакову, он пал на колени с криком:
– Не отврати лице, и не отрини… ибо не врази! Не врази, но муж строг пришед скрозь мраз и ветр дасти (он пробасил именно «скрозь» и «дасти») радость и веселие заколевшему в расселинах каменных. Ибо сказано в Писании – кто аще препоясан силою духа новосибирскаго и тузлчинскаго к землям проколевшим и снегоукрашенным, тот восстав яко кедр, возвел на сей яр огнедышашую Евлампию… – Ломящий ветер попытался вдавить сказанное обратно ему в горло, широченное, как дымоход, но он будто вьюшку перекрыл, и отдышавшись, открыл вновь и с пылом завёл: – И силой её упования затеплил… – он увидел в руке Баскакова свечи, – затеплил сии свечи, вдунув в них искру Божию и долгожданную! Прости, Господи!
– Ща, мужики, маленько осталось! Тащите аккумулятор! Надо ещё форсунки отцепить! – пригибаясь от ветра, прокричал Баскаков. Его больше всего волновало, заведётся или нет. Мужики были в защитном хмельном красносиянии, жар держали и могли ещё с пару минут простоять, но уже стыли с выступающих частей:
– Уйми гордыню, сын мой! – рявкнул казачина. – Не уподоблься нисходящим в ров… Угаси шатания духа и прими сию… – он хотел сказать и «чашу», и одновременно «чарку», – чару… Чару сию… – И сам засмеялся: – Чару… – он уже торжественно держал это нежданно добытое слово. – И да будет чара сия чревосогревна, благоутробна и душеутешиста!
В ту же минуту, чуть прихрамывая, подбежал с гармонью Юрка Михайлов в папахе и оба загремели:
По горам Карпа-а-а-атским метелица вьё-ё-ётся,
Сильные моро-о-озы зимою трещать…
Баскаков сглотил стопку самогонки, закусил сжавшимся огурчиком. Поставили аккумулятор, он продул двигатель. И теперь жарил свечи. Надо было попасть в гнёзда, в резьбу, вставить в ключ, и он еле терпел пальцами, держа раскалённую свечу, и через неё грелось всё тело, и пятки благодарно оживали. Это было обратно тому, как втекал холод в дом через заиндевелые дверные болты. Машина со второго раза, сотрясясь, завелась.
– Пускай греется! – победно вскрикнул Баскаков, и все рванули в дом, где в него вкатили целую череду стопарей, которые, накопясь, лезли без очереди и будто ревнуя друг друга.
Запели. Казачина, которого все звали Добрынечкой, время от времени взрыкивал: «Четвертя надо брать спокойней!». Баскаков глянул на часы:
– Мужики мне домой надо!
– Братка, мы отвезём.
– Никово не повезём! – сказал Михайлов. – Пойдём по селу как положено! С гармошкой.
Костя предусмотрительно остался. По приближающимся звукам и истошному лаю Лена всё поняла.
Колыванским ямщикам он руку жал,
А на площади его уж унтер ждал…
Добрынечка так и ввалился с подносом и рушником. На подносе стайно взгромыхнули стопки:
– Мир вашему дому. Как ночевала, хозяйка?
– Слава Богу, – холодно отозвалась Лена. – Игорь, я не поняла.
– Лен, завели, причём со второго раза! – восторженно воскликнул Баскаков. – Собери нам чо-нибудь похряпать.
– Ты не забыл, куда нам завтра? – И добавила с прохладным недоумением: – Ну, проходите...
Ленино недовольство угрожало победной волне, и он сказал увесисто:
– Собери на стол, не видишь, люди пришли.
– Игорь, ты на себя смотрел?
Добрынечка выдвинулся, защищая Баскакова:
– Не смей, юница, преко… глаголить мужу… э-э-э… во мраз и хлад воздувшего вторую жись стальному онагру, что сложив копыта, возлёг обессилев… Огромное извините! – с недоумением сказал он упавшей вешалке. – Мужу! – строго подняв палец, сочно повторил Добрынечка, видимо наслаждаясь тем, что слово «муж» работало и в прямом, и одновременно в высоком смысле. По-самолётному посадив поднос на стол и разбрызгивая самогон, он наполнил стопки: – Елена! Сию чару подними с нами во знак го-сте-при-им-ства. Ибо скудорадушие есть тяжкий грех, подобный волку, грызущему душу, и да будет он звероуловлен в самом корне адамовом и завулоновом!
Вздымаясь, и пыша, отекая с заиндевелых усов, становясь всё более красноречивым и сложносочиненным, он сказал громогласно и уважительно:
– Не будем глядеть на сей стол, яко овн на новоизлаженные воротья! За этот дом, стоящий на взлора… на взороласкающим взлобье! Да посетит его лихва и минует лихо. За тебя жена! – обратился он к Лене. – Будь глазоприглядна, лобзообильна и плодовита, ибо придёт время и сыновья твои, взлобзя… взрастя в гобзях… – он тяжко замер, тряхнул главой и громко продекламировал: – Взрастя в лесах и кущах, гобзящих дичью, добудут еленя и вепря и сокрушат кедры, а мы распрострём… тучные телеса свои как… э-э-э, – прорычал он с досадой, – как насаждения масличные окрест трапезы твоея!
– Вешалку вы уже сокрушили… Так что кедрами не обойдётся… – проворчала Лена.
– И словеса твои нам же в притчу! Сей самогон настоен на кедровой шишке, младой и мягкой, аки ананас. Снятой с самой верхушки и рассечённой начетверо шашкой...
– Так! – сказал хозяйски Баскаков. – Где… хлеб у нас?
Он сильно отяжелел и казался подбитее мужиков…
– Там же, где тестомес! – отрезала Лена и бумкнув на стол тарелки с капустой и солёными помидорами, вышла в соседнюю комнату.
– Что за тестомес?! – живейше поинтересовался Добрынечка.
Лена всё слышала и тут же открыла дверь, словно сидела в скраде:
– Да это не к вам претензия! Тут год назад тестомес потеряли, а хозяин новую хлебопечку до сих пор покупает. А я в магазин не сходила. Сильно холодно. Извините, – и снова ушла в скрадок.
Баскакову хотелось, чтобы Лена восседала с ними за столом, чтоб всё было честь-по-чести, и он пошёл к Лене.
Едва она увидела Баскакова, глаза её набрякли слезами и она закричала:
– Не подходи ко мне! Не подходи!
– А ну, дура, перестань вопить! – ледяно взрычал Баскаков. – Не видишь, к нам люди пришли!
– Что?! Что ты наделал! Ты не представляешь, что ты наделал! – закричала Лена. Глаза у неё наполнились смесью ненависти и слёз. Вокруг глаз тоже вспухло, отёчно очертились мешки. Он протянул руку, но она отшатнулась, вся напружиненная, дрожащая. Ненавидящие глаза ослепили Баскакова. Он продолжал на неё надвигаться, и она выскочила обратно в гостиную.
– Препознавательно! – удивился тучный Добрынечка. – У нас в полевой кухне тестомес был – весьма плугоподобен! В толк не возьму, как возможно гостеприимной хозяйке потерять сие орало. Разве славный подъесаул Шлыков перековал его на меч-кладенец иль востросекущую шашку!
Подойдя вплотную к Лене, Баскаков сказал негромко и твёрдо:
– Изволь, девушка, быть с гостями и принимать их, как подобает хозяйке!
Ленины глаза снова наполнились слезами и ненавистью и она закричала:
– Пошёл вон от меня!
– Счастие, девица, не в тестомесе, а в семейном согласии, – сказал Добрынечка.
– Да что ж это? – в растерянности воскликнул Михалыч и развёл руками.
– А я объясню, – демонстративно громко сказал Баскаков. – Тестомес, о котором… крикоглаголила гостеприимная и мужепокорная фемина, был славным подъесаулом Шлыковым… звероуловлен и ликвидирован как самое басурманское изобретение – хозяйке в наущенье, ибо несть на земле Сибирской и Среднерусской тестомеса душеласкательней, нежели ея заботливые длани!
– Та-а-ак!
– Ввиду же того, что хлебостряпательная авто-машинка была, э-э-э… наиредчайшей… э-э-э… разновидности, то достать необходимый тестомес было решительно невозможно. Покупку же нового механизма я не только… ик… не благоприблизил, а исключил вовсе, дабы не вносить в жилище устройство, содержащее в себе кратнопомянутый тестомес как предмет семейного раздора.
В этот миг Елена вышла на середину зала с любимым Баскаковским фарфоровым электрическим чайником, привезённым из Китая, и сказала:
– Если ты сейчас не замолчишь, я его расшибу.
– И в урок бабе, которая как эсь существо неразумное и более способна жужжать про тестомес, аки песия муха, нежели чем э-э-э… настропо… искуситься стряпать хлеб у духовом шкапчике.
Лена с размаху шарахнула чайник и выбежала, хлопнув дверью.
– За сходную мизансцену я был изгнан из Мариинского театра «Жёлтое окошко», – сокрушённо провозгласил Добрынечка.
Михайлов просто очень горько наморщился. А Баскаков с ещё большей невозмутимостью продолжал:
– Сие было истолковано моей супругою особенно превратно, наливай, Добрыня, ввиду ожидания… э-э-э действия, ответного вручению… ею… мне, – Баскаков забуксовал, – в дар телефона, с жинко… с жидкокристаллическою Нинкою, внесшей в наш уклад не менее раздора, чем многожды указанный тестомес. Потому как Нинка, желая навредить и ревнуя меня к вышеуказанной особе… не раз истолковывала сие слово превратным образом… гобзуя сомнительной лексикой и внося смуту в и так непростые отношения... И теперь… «Между нами молчанья равнина и запутанность сложных узлов»… Телефонная девушка Нина, как ты много попортила слов! Давай, Михалыч, песню!
Михалыч дал. И не одну. Вдруг Баскаков насторожился и ринулся на улицу. Михалыч с Добрынечкой тоже выскочили и увидели спину Баскакова, бегущего в тапочках к воротьям. Ворота были открыты и за ними стояла Ленина машина. Машина была праворукой: правая дверь открылась и из неё показалась нога в остром сапоге. Лена хотела закрыть ворота, но увидев Баскакова, захлопнула дверь и уехала.
Михалыч аккуратно свернул гулянку, организовал щадящий ступенчатый посошок и увёл сопящего Добрынечку.
Баскаков пошёл в ванную. «Чтоб буйну головушку в курган да не сложить!» – пропел он и посмотрел в зеркало. Вид был чужой, страшный, глаза набрякшие, тяжёлые, старые. Лицо в мешках и складках. Краем души он надеялся, что Лена одумается и извинится за полные ненависти глаза и крик: «Пошёл вон!»… Пискнула Нинка – она писала: «Подключите новый тариф «Жужжите с нами»».
– Жужжи дальше! – сказал Баскаков и шарахнул телефон о кафельный пол. Полетели чёрные осколки, отскочила мощная плоская батарейка, тёмно-серебристая и будто подкопчённая.
Баскаков проснулся в четыре утра. Почти мгновенно его настигло и пригвоздило произошедшее, но какую-то долю секунды он всплывал из небытия, и неомрачённая и счастливая эта доля была страшнее всего: она будто показывала, как мгновенно может рухнуть то, что строят годами.
Остановка
Лена рванула к Подчасовой.
В мороз дорога, что называется, потеет, поэтому, несмотря на всё душевное сотрясение, Лена ехала аккуратно, зная, что ледяная корочка может быть настолько тонкой и незаметной, что из машины выйдешь и ноги разъедутся. Баскаков учил, выбравшись на дорогу, притормозить и понять, насколько скользко. На трассе никого не было, Лена притормозила, и тут же противно заскворчала абээска.
Да он и виден был – белёсый налёт. «Надо будет ещё попробовать», – подумала Лена, и вскоре снова поглядела в зеркала и попробовала дорогу, и снова с царапающим скрежетом отозвались колёса… Слово «пробовать» будто прорвало обиду, объяснило: «Да! Он будто пробует! Как будто меня пробует на терпение… На скольжение – сорвусь или нет в занос? Зачем он так делает? – Лена закусила нижнюю губку, и опять полились слёзы. – Да, мир мужской, никуда не денешься. Это понятно. И если женщина приходит в ярость, то по единственной причине: от слабости. Оттого, что ничего не может с собой поделать. А он знает эту позорную особенность… и продолжает, и продолжает! Да он вообще… какой-то… дикий…».
Баскаков, когда ухаживал за Леной – старался быть галантным, водил в рестораны и театры, возил в Горный Алтай на всякие «Серебряные Родники» и «Бирюзовые Катуни». Потом, правда, выяснялось два обстоятельства. Первое: он не умеет отдыхать и единственное, что может, – нестись на машине в Горный Алтай. Лена мечтала пожить под соснами на берегу Катуни, на базе с душем, а он тащил её в самую голокаменистую даль или загонял в комары на север Телецкого озера, куда пробирался в окружную по Улаганскому тракту. Уланское плато почти отвесно обрывалось над долиной Чулышмана, лежащего внизу тёмно-зелёной лентой. К нему по крутейшему склону вёл грунтовый серпантин, похожий на белёсую многоугольную молнию. Баскаков сажал Лену за руль и заставлял позировать у исстрелянной из карабина таблички «Будьте предельно осторожны. Начинается горный перевал Кату-Ярык. Протяжённость 3,5 км».
А во-вторых, Баскаков менялся с такой скоростью, что Лена еле успевала к нему приспосабливаться. И настолько продолжал при ней выковываться, что она то восторгалась им, то чувствовала себя надуренной.
«И ведь знает, что нельзя меня вводить в это состояние, что мне трудно, я же… у батюшки спрашивала… И ста… и стараюсь, но срываюсь». Она то успокаивалась, то её снова окатывало: «Ну как же он мог после всего, после исповеди, перед Причастием?».
По тому, как её все обгоняли, Лена понимала, что перебарщивает с осторожностью. Асфальт был тёмный и она потихоньку осмелела, и тоже обогнала грузовичок. Её мощно оплыла чёрная леворукая «камрюха», и ей представился её водитель: лет сорока самоуверенный мужичок, умеренно деловой, умеренно народный, умеренно лиходеистый. Умеренные матерки и холёные щёки. Она даже в соревнование вступила с ним, чуть поддала и, почувствовав уверенность, с налёту обошла девчонку на красном «фунтике».
«Камрюху» уже не было видно, как вдруг левый поворот, в который входила Лена, оказался круче, чем выглядел издали. Что она разогналась, выяснилось, когда увидела снежную кашку вдоль загибающейся обочины. Всем телом Лена почувствовала хрупкость полёта по заледенелой дороге, и что одно движение рулём – конец. Слитая с машиной, она вынужденно повторила изгиб, и тут её нечеловечески-размашистым рывком бросило на встречку, и также размашисто вернуло обратно. Ей показалась, что она, было, поймала машину, но её снова неистово рвануло. Это был второй вылет и второй возврат. Пронзённую ужасом её кидало, как камень на верёвке. И уже резче, сильней подножка, и на четвёртом рывке её совсем заломило к дороге и понесло на левую обочину. Там было расширение дороги, площадка, у которой стояла под углом автобусная остановка без крыши, с приваленным гофрированным железом – её, видимо, ремонтировали. Лена вскользячку пропахала передком вдоль железа, снесла боковую стойку остановки и завалилась набок на снежном пятачке, куда дорожники грейдером сгребали снег. Будто специально пятачок был завален снегом, и имел свой подъём, гнездом выступая над откосом. Машина завалилась неестественно мягко, и теперь лежала на правом боку. «Тэрик» был праворукий, и Лена оказалась внизу. Продолжал работать мотор и играть музыка. Трясущейся рукой Лена не сразу нашарила и повернула ключ. Сверху открылась дверь:
– Живые?
– Живые, живые… – ответила Лена и протянула руку.
Напротив остановки стояла кафешка, из которой и выбежал пожилой мужичок. Лена выбралась. Машина лежала на крепком комковатом снегу. Передок был разбит: бампер разлетелся на куски, валялись обломки решётки и номер. Зашла сбоку: точно, смято крыло, и точно, передняя дверь. Задняя непонятно.
Мгновенно остановился чёрный «прадик». Вышли отец с сыном, какие-то стремительно отзывчивые. Парень тут же подобрал номер: «На, убери! Так. Рамка! Давай собирай бампер! – крикнул он чуть ли не весело. – Спаяется! Всё собирай только! Туманка вот. Она денег стоит. Батя, строп давай. Да это место такое... Здесь сколько побились, знак-то стоит поворот, а чо толку, туда надо «сорок» ставить».
«Так, куда цепляем»… Зацепили Лениного «тэриоса», но «прад» забуксовал. «Да бесполезно. Надо «камаза» гружёного». Навстречу ехал ярко-рыжий дорожный «камаз» с ножом и посыпалкой. Лена бросилась, замахала рукой. «Камаз» остановился, вылез мужичок, буркнул: «Так-то сообщить надо, это ж дэтэпэ», мощно и проворно попятил огромный «камаз», зацепил стропу. «Прадовский» парень по-флотски сруководил выбором слабины: «Набей!» и махнул. «Камаз» мгновенно поставил «тэрика», игрушечно подпрыгнувшего. Лена для порядка крикнула: «Что-то должна?», а мужик только отмахнулся и уехал.
Лена осмотрела потери: вдавленное крыло, вдавленная передняя дверь, вторая дверь помята, но несильно.
– Ну, заводи, – сказал парень.
Мятая возле петли дверь не открывалась до конца, Лена протиснулась и повернула ключ – машина завелась.
– От-т японец! – восторженно крикнул парень. – Ну чо, помощь не нужна больше?
– Всё! Спасибо вам!
Лена села в «тэрик», переехала на другую сторону дороги, остановилась и позвонила Игорю. Телефон был выключен. Набрала Подчасову, сказала, что машину разбила. «Ну да, доеду потихонечку», и едва собралась отдышаться и успокоиться, как увидела медленно едущий милицейский «уазик». «Сообщил кто-то. Надо было дёргать сразу. Курятина!».
Вышли двое.
– Ну, что у вас? Почему не сообщили? У вас дэтэпэ.
– Да какое дэтэпэ?
– Как какое? Вы уехали с места дэтэпэ. А это что? – ткнул гаишник на капот – на его обрезе зеленела краской вмятина от стойки. – Тем более камера вон, – он указал на кафешку, и Лена не знала, на пушку берёт или по правде камера. – И след вот… – он кивнул на след «тэрика», пересекающий дорогу от остановки.
Пошли к остановке. Асфальт был покрыт тонкой и чёрной, как лак, мелко-пупырчатой плёнкой. Лена поскользнулась, но удержалась и прочертила стальным каблучком полосу. Белую с крошкой.
– Да вот… – подняв осколок бампера, полуукорительно-полупрезрительно хмыкнул милиционер. – Повезло ещё… – и покачал головой. – Пойдёмте в машину.
Сели в «уазик», показавшийся допотопным, прямым каким-то, тракторно-железным, пахучим. Лена оказалась спереди на пассажирском сидении.
– Документы.
Посмотрели, положили на панель.
– Ну что? Права забираем…
– А как же?..
– Суд будет решать. Вы с места дэтэпэ скрылись.
– Ребят, ну… ладно вам. Может… Ну вы видите, – её трясло. – Честно, я с мужем разругалась. Муж мой Баскаков… писатель. Слышали наверно.
Они переглянулись неопределённо.
– Погодите, я сейчас вернусь. – Лена сбегала за книжкой, которые у них на такой случай всегда лежали в машине: – Вот.
– «Фарт»… – недоумённо хмыкнул гаишник.
– Да уж подфартило… Ну может как-то… это? Он, главное, телефон выключил! Разругались ещё… вдребезги… – у Лены задрожал подбородок…
Мужики ещё раз переглянулись.
– Вы же остановку вон поломали.
Лейтенант вздохнул долгим вдохом и таким же ровным голосом, как уличал её в аварии, сказал:
– Давайте так, сейчас звоним в бригаду. Они приедут, будете с ними разбираться, сколько там за ущерб.
Полчаса протянулись пыткой. Наконец показалась «газель» с двойной кабиной, там сидели в ряд трое дорожников в рыжих жилетах. Вышли, поздоровались. Пошли все вместе к остановке. Потом гаишник сказал: «Ну вы пойдите пока у машины побудьте». Какое-то время шло совещание у остановки. Лена ходила взад-вперёд. Наконец подошёл гаишник:
– Сейчас Ваня начальству позвонит.
И отдал документы.
Ваня был главный. Подошёл. Молодой, полный, очень белый. Размашистой какой-то хозяйской повадки. Лицо гладкое, бесщетинистое, неестественно даже молодое:
– Подождите. Щас позвоню… – отошёл с телефоном за «газель». Долго набирал, ходил, о чём-то говорил. Потом вернулся к Лене. Лена сжалась.
– Ну короче, нам заплатите за остановку четыре тысячи. И всё.
– Ну конечно… Ой, Господи… Слава, Богу… Только, вы знаете у меня вот тысяча, а остальное на карте.
Протянула тысячу.
– Ну давайте, – невозмутимо, негромко, вскользь как-то ответил Ваня.
– А вы мне номер карты дайте.
– А… – будто даже удивившись, сказал: – Ну давайте пишите.
– Я только не знаю, могу не успеть сегодня.
– Да ладно, потом там… – махнул рукой. – Тысячу там ещё... – так же будто по поверхности пробормотал Ваня и сказал отчётливо: – Езжай с Богом.
Когда Лена села в машину, уже темнело. Замешкавшись, она проехала свороток к Подчасовой, стала разворачиваться, но колесо задевало крыло, разворот получился чересчур широким, и правые колёса провалилась в снег на обочине. Лена ударила двумя руками по рулю и заплакала. Сумерки… Грязный снег… Помятый бок. Скособоченная, окончательно подбитая машинёшка, изуродованным боком влипшая в грязный комкастый снег. Еле открывающаяся дверь, которой ещё и снег мешал открыться. Неудобство перекошенного вытискивания. Тонкие чёрные сапожки… Обессиленность полная. Ещё не пережитый свой улёт. Попытка звонка Баскакову: «Гад! Пьёт с Добрынечкой!».
Вышла на дорогу и стала останавливать машины. Самосвал проехал мимо («Сволочь!»). Двое ребят на «бигхорне». Остановились, вытащили. «Спасибо, ребята». «Да не за чего». Едва собралась трогаться, позвонила Подчасова, сказала, что едет Бузмаков в Боево. «Твой телефон дала, мало ли». Тут же позвонил мужской голос: «Галина сказала, вам помощь нужна. Вы где?». Объяснила. «Ну стойте». Это было хорошо – сил не оставалось. Со стороны города подъехал микроавтобус, мигнул фарами, развернулся и стал впереди Лены. Вышел Бузмаков и ещё один человек: рослый, с выпуклым животом, линию которого повторяла длинная очень выгнутая поясница. И живот, и поясница были плотно обтянуты курткой – синей, блестящей, набранной из пухлых полос. Сели в машины. Двинулись. Гуськом добрались до Подчасовой.
В автобусе ехало человек шесть, все в Боево на Рождество.
– Галь, я наверно с ними поеду. Там отец Лев. А машину у тебя брошу. Возьмёте меня?
– Да возьмём, конечно. Только вы в чувство придите… Так, а Игорь где? – спросил Бузмаков.
Галя сделала моментальное зверское лицо, и он понимающе поджал рот.
– Давайте чаю.
Сели за стол. Лена несколько раз пересказала своё приключение. Больше всех взбудоражился и восхитился человек с гнутой поясницей, оказавшийся московским писателем. Звали его Леонид. У него было большое, немного баклажанистое лицо. Тёмная кожа вокруг глаз с мелким напылением прыщиков – будто пшёночкой посыпанное. Увесистый подбородок. Когда он говорил – большой рот смещался-выдвигался ковшом. Леонид всем восторгался. Говорил громко и быстро, частил немного: «Да шикарно! Спасибо, Галечка! Это что? Папоротник? Мммм… Шикардос, шикардос»… Смесь мёда с кедровыми ядрышками его вовсе обезоружила. Он ломанулся к вешалке и притащил плоскую бутылочку и плоский пакетик…
– Ой, извините! – вскрикнула Галя. – Я не сообразила, – и пошла к буфету.
– Галя, никаких водок ему! Мы в монастырь едем, – крикнул Бузмаков.
– Лена, будете? Бог простит, – отхлебнул Леонид коньячку. – Вот ещё хамон – берите… Ну ладно, ладно… Ну всё же уладилось…
– Лен, может, вина? – спросила Подчасова.
– Да завтра Праздник… И главное, я ещё подумала, надо было быстро в сторону отъехать куда-нибудь. Гаишники эти. Я только дух перевести собралась… Трясусь ещё вся.
– Да это сообщил, сообщил кто-то! – громогласно частил Леонид.
– Тот с «камаза» и позвонил! – сказал кто-то.
– Да ну, какой ему смысл – он же сам и растаскивал? Не. Это кто-то, кто ехал. Или из кафешки.
– Из кафешки! Мужик, который подбегал.
– А главное, я так и не поняла, что это за история с остановкой, то ли они захотели за мой счёт её отремонтировать? То ли что?.. Как-то непонятно. Если бы они поделили деньги – гаишники и дорожники? Нет. Ваня этот… Как он рукой махнул: «Езжай с Богом!» – Лена поджала губку и отвернулась.
– Шикардос-шикардос! – закричал Леонид. – Давайте за вас, Лена, за остановку! Ну как же хорошо! Леночка, у меня ещё кальвадос есть! Шикарный кальвадос! Шикардос-шикардос!
Быстрое это «шикардос-шикардос» звучало как присказка, как отдельное что-то и производственное, вроде «как понял – приём». Если он произносил отдельно «шикардос», то мог автоматически добавить двойной шикардос.
– Так а знака там не было?
– Да не помню! В том-то дело. Могла прозевать спокойно. Я знак прозевала. Эта «камрятина» ещё, я прямо представила такого… Баскакова… в ней. «Бэ-бэ-бэ» такого… «Я скэзэ-эл… никаких хлебопечек! В духовке стряпать будешь!» – басом изобразила Лена и все засмеялись, – Бр-р-р, терпеть не могу… И в общем, я вижу этот поворот, уже вхожу… И понимаю, что копец… Ну и ка-ак меня ки-инет на встречку.
– Лена. Ты в рубашке родилась!
– Шикардос-шикардос!
– А меня опять потом ка-ак поведёт, и главное я ничего сделать не могу. Вот тебе и полный привод!
– Леночка, полный привод выручает, пока не сорвёшься… Как у сильных людей… Тянет до конца, а как сорвался – не поймать. Отдельный навык нужен. Газ нельзя бросать.
– Да я почти поймала. В том-то и дело! А потом снова… и эта остановка! И куча эта. Прямо как ладонь… кто-то подставил!
– Остановка! Лена, вы прелесть! Ха-ха-ха! Вот это сюжет! Менты с дорожниками бабки загребают на остановке! Даже нет! Таскают! – он зашёлся от хохота. – Слышь! Они её таскают туда-сюда! На повороты ставят! Кормилицу. Ха-ха! Кино можно снять: «Кормилица»! Я Шнапсу в газету напишу! – крикнул Леонид, одновременно шарясь в широченном, похожем на изразец, телефоне: – О! Чернявского убрали.
– То есть они, смотри, – говорил он уже целенаправленно Лене, – они ищут поворот, привозят остановку… Ха-ха! Вызывают, погоди, Валер, подгоняют поливалку! Поливалку! Представь! Заливают дорогу, а потом ставят остановку! Четыре тысячи с одной машины, это сколько долларов? Так, какой курс сейчас? – он слазил в изразец: – Ага… Тридцать девять. Четыреста баксов… С десяти тачек тысяча шестьсот!
– Да, Ленк... – свозь гвалт глядя на Лену, задумчиво сказала Подчасова, – конечно дала ты… А если б на встречке?.. Подумать страшно.
– На ладно тебе, Галк! – вдруг улыбнулась Лена. – У тебя вообще машина сама поехала ночью.
– Как сама поехала? Шикардос-шикардос! – восхищённо округлил глаза Леонид.
– Взяла и поехала. У нас в Сибири автоматика. Галь, я расскажу? У неё механка. На скорости оставила. А машина на автозапуске. Ну и поехала.
– Как на запуске? А-а-а, – догадался Леонид, – мороз же! Ну да. Вот это да! Шикардос! Ну вы даёте! А мы не ставим на запуск.
– Дак у вас тепло.
Леонид хлопнул кистями ковш в ковш:
– И представь, представь, Ген! Менты остановку притащили, асфальт залили, сидят в «уазике» караулят. Тут такая тачка врезается. Они туда: «Документы! Порча имущества!». А там нет никого! Шикардос! Скрытие с места дэтэпэ! Вот чижики! Лена, так они прямо сразу вам стали предъявлять? Про дэтэпэ?
– Ну да.
– Не спросили, как самочувствие, может, помощь нужна? Не, ну какие суки!
– Нет, ну они видят. Я же сижу, нормально, – Лена тоже думала о холодке того разговора, но сейчас почему-то стала защищать ребят.
– Да в Америке вас бы успокоили сначала и в чувство привели…
– Да ладно тебе, Лёнь, – резанул Бузмаков, – успокоили, а потом такого штрафака бы впаяли, что… – махнул рукой.
– Бузя, не бузи! Ты гонишь!
– Ленк, пойдём тебе кофту покажу… – сказала Галя.
– Пошли, – быстро встала Лена.
Галя повела к себе в комнату:
– Ну что у тебя? – сели.
– Да не могу! – снова затряслась Леночка. – Рассобачились с Игорем вдрызг. Просто вдрызг. – Бросилась к Гальке. Та обняла:
– Ну всё, всё. Мужики есть мужики. Щас-то где он?
– Да пьёт с казаками этими. Телефон выключил. Главное, я его таким не видела никогда… Бывает, конечно, выпьет. А тут как животное… Ещё прёт на меня: «Ты чо, дура? Ты чо, дура?». Меня ещё взбесило, что он предсказал всё, и я как дура действительно!
– Да что предсказал?
– Ну, там началось, что нас с премией прокатили, ну и… ой Господи, ладно…
– Ну что ладно? Рассказывай уж. Смотри, какие духи Валя подарил.
– Шикардос… – Лена кивнула. – Короче, разговор про литературу, ну про сор из избы… И он прямо рассказывает вот эту всю историю… До этого! Как они пьяные пришли, а я, а я… гостеприимства не проявила! Сволочь такая…
Вернулись.
– Не, ну вы чудо, Леночка! А?! Остановку протаранили! Не, ну а те чижики! Только надо дальше допридумать? Финал нужен убойный. А! Вот! В неё все врезаются, в кормилицу-то! Она вся уже такая латанная, перелатанная… Бронированная… А дальше… – он сосредоточенно наморщился, и вдруг, сияя, оглядел всех: – А дальше, слушай! Дальше едет полкан! Ну ты рассказывал-то… танковый. Которому этот… как его… Шахназаров «тигр» заказывал. Как раз поехал за бухлом и тоже впилился в остановку! Раскатал её в блин! Ха-ха! Шикардос-шикардос!
– Поехали, шикардос! Спасибо, Галюнь, за чай. Лен, вы готовы?
– Ха-ха-ха! Блуждающая остановка! – не обращал внимания Леонид и закричал: – Слышьте! Это брэнд! Ха-ха-ха! Или нет! Смотрите: жена писателя Баскакова – глава фонда возрождения остановок! Ха-ха… – и зачастил: – Такое совещание у губера: может ли Баскаков быть брэндом новосибирской области? Помнишь, Бузь, конференция-то, ты рассказывал: «Может ли Шукшин быть брэндом Алтайского края?». Ха-ха-ха! Шикардос! Не, Лен, представляете? На полном серьёзе. Шукшин – брэнд Алтайского края!
– Совсем сдурели! – сказала Лена, приподнимаясь и чувствуя, что при всём возмущении Баскаковым говорит его словами.
– Брэнди – «Калина красная!», – не унимался Леонид. – Самогон «Макарыч». «Печки-лавочки», отделка бань под ключ!
– Брэнди… – покачал головой Бузмаков, поднимаясь.
– Зато в трэнде! – закатился Леонид, и все засмеялись.
Сели в микроавтобус. Лена оказалась рядом с Леонидом. Он ещё поприкладывался к бутылочке, размяк, потом как-то планово положил руку Лене на плечо. Зашептал что-то пахуче. Бузмаков его шарахнул в плечо. Тот опомнился:
– Не. Я ничего.
– Ну и не бренди. А то пешком пойдёшь.
– Всё-всё... – нахохлился Леонид, поднял воротник и отвалившись к окошку, прокемарил до Боева.
Ванино поле
Боевский Свято-Никольский монастырь был построен в конце двадцатого века одним священником на пожертвования. Строили из чего было, кто цементом помогал, кто кирпичом, кто бетонными блоками. Так и стоял монастырь бастионом из серых блоков, квадратный, очень высокий и стенами немного на конус, как Лхаса или миноносец. Многие блоки были с торчащими арматуринами и вид получался ощетиненный, грозный. Наверх в гостиницу для паломников вела железная лестница с какого-то завода. Длинная, крутая, со ступеньками в ромбик. Первый раз Баскаков был здесь в страшенный мороз и особенно запомнился заиндевелый и серый вид монастырских стен и суровая, судовая почти лестница.
Ехал в беде, в отчаянии, изведённый отношениями с женщиной чуждых взглядов, разрывом с ней и кризисом в работе. Что-то вдруг страшно отвратило в литературе. Стало казаться, что тому главному, ради чего всё затевалось, уделялось ничтожно мало внимания по сравнению с ремесленной стороной. При попытке донести духовный эпизод, девяносто процентов времени и сил уходило ни на его переживание, а на технические вещи, этот эпизод оправдывающий.
Прислали как-то Баскакову английский перевод его рассказа. Устав расшифровывать его, он в виде передыха перенес взгляд на свой русский текст и… его буквально отшатнуло. По сравнению с непривычной, почти непроницаемой иноязычной буквенной массой, родной вариант был настолько говорящим, что русские слова буквально вскричали, бросились навстречу. Ожили знакомо и разнолико. Столько одушевлённого было в этой качнувшейся навстречу бумаге, что наряду с радостью почувствовал он в этом оживании грозную силу, и даже предупреждение. Слова были будто стая, севшая вокруг доверчиво и мощно, но готовая, чуть что не так, навсегда сорваться… В этом «навсегда» он был уверен абсолютно, а «что не так» означало ничтожное собственное отклонение от того, к чему призываешь читателя. Он попытался описать пережитое, но всё выглядело настолько нарочито, что для поиска естественной формы ушли бы годы. Зачем? Ведь чтобы стать лучше, добрее и отзывчивее, требуется совсем иное…
С таким грузом и приехал тогда в Боево Баскаков. Вошёл в зимний и суровый двор, где возле бетонной стены громоздилась куча огромных тополиных чурок. Их перекатывали две послушницы в ярких куртках. Одна, самая худенькая, с лицом, закрытым капюшоном красной куртки, особенно пронзила рвением. Он бросился к ней: «Давайте, помогу», а она ответила только: «Не надо, это моё»…
Он поднялся по судовой лестнице в гостиницу. Там было тепло, даже парко, зеленело множество цветов в горшках, просто оранжерея целая, плыл запах щец, ещё чего-то жилого. Его поселили, потом была служба, по окончанию которой он подошёл к батюшке. Мол, что нужно, чтоб монахом стать?
– Так, так, так… – сказал отец Лев, отрицательно качая головой и сразу будто отвергая весь Игорев пафос. – Тебя как зовут?
И от этого «ты» Баскакову уже вполовину легче стало:
– Раб Божий Игорь.
– Раб Божий Игорь, – ударив на «раб», быстро, удивлённо и как знакомому сказал отец Лев и поглядел пристально в глаза. – Давай так. Поживи. Трудником. Мы тебе келью дадим. Работы много. Успокоишься… Подумаешь. – Он помолчал: – Я тебе и по-другому мог сказать: что совсем не обязательно принимать монашество, чтобы уйти от того, что тебя в миру не устраивает. Что там не так и много честных и думающих людей… А ты хочешь их число уменьшить… – он улыбнулся, всматриваясь и будто изучая собеседника. – И что будущему монаху надо там, – он кивнул куда-то вдаль, назад, – готовиться: соблюдать посты, каждый день – как штык, молитвенное правило читать, ходить в храм. Очень серьёзно изучать Священное Писание, жития Святых, Святых Отцов. Приучаться к постному, в пять утра вставать, не говоря про телевизор и встречи с друзьями. И с девушками… – он особенно упёр на это слово. – И так с годик. А там… посмотрим… Но я тебе говорю – поживи недельку… У?
………………………………………………………………………………..
Баскаков так и не выспал ничего «путнего». С четырёх лежал в полудрёме, то в жару, то покрываясь потом и остывая, холодея от бессмысленности какой-то и непоправимости, от контраста между полной невиновностью безмятежностью утра и внезапностью катастрофы. Ворочался, метался, пытался прохладней прилечь к постели, вминал жаркую голову в подушку, силясь вытянуть спасительную её прохладу, потом также припадал ко второй подушке. Из похмельной растерзанной души не шли Ленины обезумевшие глаза, порубежный её взгляд, ненавидящее: «Пошёл вон!». В конце концов встал, пошёл в ванную, нашёл и прибрал карту от телефона. Долго стоял под душем, чувствуя, как волнами то нарастает, то ужимается в голове ядро.
Пил чай. Лежал. Ходил. Жарил яичницу с луком, ел насильно, пряно, на случай, если остановят. Вышел на улицу, умылся снегом. Погода была ветреная. Серая… подстать настроению…
В машину дико было садиться. Руки, тело неверные. Сел. Жевал жвачку. Помнил, как его остановил молодой гаишник: «Игорь Михалыч, когда вы крайний раз принимали спиртное?». И как непроницаемо глядя в глаза гаишнику, твёрдо и будто вскользячку бросил: «На день рыбака». По дороге заехал к Косте. Казаки негромко сидели за столом. «Смотри осторожно – сейчас перемёты будут».
На трассе задувал очень сильный ветер. Где дорога возвышалась над полем, снежные потоки переливали асфальт особенно гибко и текуче. Слоисто-туманную ткань будто перетягивали через трассу и натяг этого жидкого дыма был необыкновенно тугим и одушевлённым. Мутно-молочные струи змеино изгибались на взъёме и спуске. Их набрасывало на лобовое стекло мутной толщей, тенями, сумерками, в которых меркла окрестность. Когда машина прошивала несколько струй, аж рябило в глазах.
На снежном фоне струи не было видать и, казалось, они нарождались только рядом с трассой, ради неё. Но шершавый мел мёл по всей равнине, и поле будто жило многовековой жизнью, куда-то перетекая, а трасса с бренными машинами лишь попалась на пути. Волокна были настолько плотными, что казалось должны оплести колеса, и машины, споткнувшись, завязнуть, расползаясь, и раствориться медленно и смиренно. Но они почему-то ползли, замедляясь и работая аварийками.
Видимость совсем упала – метров сто от силы. Дорога коротко расширялась, и посередине на островке темнела тень пожарного «камаза», а рядом с ним тень человека, отчаянно махавшего круговым махом – чтобы ехавшие не останавливались. Дальше на встречной полосе стояла патрульная с мигалками, скорая и междугородний автобус, которому в зад влепилось с полдесятка легковушек. Баскаков внимательно их рассмотрел, убедившись, что Лениного «тэрика» среди них нет.
Проезжая Подчасовский перекрёсток, он вдруг решительно повернул. Остановился у ворот и вошёл в калитку. «Тэрик» стоял мордой к дому и небитой стороной наружу. Баскаков постучал…
Через полчаса он мчался в Боево. В лесу не мело, но, едва дорога выходила на простор, поле снова жилисто перетекало асфальт, полосы, перебежав дорогу, укромно сливалась с полем, будто таясь.
Он въехал в Боево, засаженное огромными тополями, глядевшимися особенно голо. Слева в ветреной дымке тянулись домишки, справа монастырь стоял ощетиненным бастионом. По железному корабельному трапу взлетел как по авралу. Комнату в гостинице так и держали за ними, словно она ничего не знала. Хотя казалось, «после всего» её следовало аннулировать беспощадно.
Вошёл без стука. Лена лежала с открытыми глазами, с открытым молитвословом на груди. Он прошёл и сел на стул.
Оба молчали. Первая не выдержала Лена, поднялась, отпила воды из стакана, спросила тихо, выцветше:
– Ну и что мы будем делать?
– С чем? – деревянно ответил Баскаков.
– С нашими… изуродованными отношениями?
Баскаков очень быстро поднялся, подошёл, обнял. Лена уткнулась в шею. Почувствовал тёплые глаза, как пошевелились, защекотали веки, потом мокро и облегчённо замерли. Начала содрогаться, дышать со спазмом.
– Ну всё, всё. Живая, главное.
Она подняла лицо, мокрые глаза, как-то длинно натянула верхнюю губу на верхние зубы. Помолчала. Потом сказала:
– Крыло сильно? – и снова уткнулась и всхлипнула.
– У машины или у… отношений?
– У-ве-во… – снова сотряслась Лена.
– Ну ладно, ладно… Выправим. Сильно испугалась?
Он чувствовал её кивающую голову. Видел хвостик, перетянутый пояском. Он снял прихваточку и освободил-рассыпал волосы. «М-м!» – возмущённо дёрнулась всем телом она, но когда он грабельно пропустил волосы меж пальцев и лапищу прижал к тёплой её голове, будто что-то долепляя, расслаблено прижалась. И снова, затрясясь, уткнулась Баскакову в шею, но уже успокоенно. Потом подняла лицо, дыша тяжело, ещё вздрагивая, и чуть улыбнулась. Между губ попал волос, отвела его длинным тягучим движением. Легла. Сказала медленно, по-больному:
– Ты телефон выключил, чтоб проучить меня?
– Чтоб проучить Нинку… Лен, я расколошматил его. Когда ты уехала. Она глупость сказала… А ты мне звонила?
Она закивала. Потом сказала очень задумчиво:
– Я почему-то думала, что ты приедешь. Я сегодня исповедовалась и причастилась. Иначе… я не знаю… чтоб… было.
– Испугалась, когда потащило?
– Погибнуть испугалась. Дико, когда тебя волокёт... Как будто она взбесилась, и ничего сделать не могу, какая-то силища тащит... И страшнее всего было, что я знала, что гололёд. И меня вокруг пальца обвели, понимаешь. Ехала, конечно, настроение… состояние жуткое, но всё равно тепло, музыка играет. И одна секунда! Одна…
– Там же знак.
– Это всё знак… Знак я… вроде видела… боковым зрением. А потом стала вспоминать – видела… или не видела. И запуталась… Там… пологий знак. И я как в поворот стала входить, прямо телом почувствовала, что всё. И как будто эта бровка снежная меня подрезает. А за ней же бордюр этот. Дальше само всё…
– И ты ещё газ бросила.
– Наверно бросила. Не помню… И ещё поразило, как всё мягко потом. Вдоль остановки. Будто я в пластмассовой коробке. А потом лежу. Музыка играет. А я уже думаю, во сколько ремонт обойдётся... Такие ребята новосибирские хорошие. А я ещё сильнее на тебя рассердилась. Что тебя нет рядом. Разбилась бы – знал бы!
– А почему ты Косте не позвонила?
– Не знаю… Ты знаешь, мне было так плохо, так ужасно, ты не представляешь, и как ты на меня пёр, глаза в разные стороны… и требовал… А я не могу сдержаться, и понимаю, что люди, а не могу, и эта авария… Мне надо было одно только – дожить до исповеди. Всё. Я не спала ночь. Может, теперь посплю.
Она помолчала.
– Что отец Лев сказал?
– Давай потом как-нибудь… Сил нет. Главное, что он… посмотрел… так… – она снова закусила губку и отвернулась. – А что ты старый телефон не взял?
– Да вообще не хочу видеть их. После Нинки.
– Ой, Господи, – покачала головой. – Я когда посмотрела на крыло, знаешь, что подумала? Вот она, посудомоечная машинка.
– Да ладно, купим тебе машинку.
– Я не понимаю, почему?! – она вся наполнилась этим «почему». Тревожным, требовательным, пружинным. Даже до некрасивости в лице. До складочек на лбу вертикальных: – Почему так получилось? Ведь есть причина. Есть. Не может не быть.
– Почему улетела, или почему приземлилась?
– Почему всё. И подбросили, и встречку перекрыли, и поймали ещё... И этот пятачок снежный – как ладошка. Понимаешь. И я подумала, что… – она прямо задрожала. – Что в следующий раз – ладошки не будет. А главное – пока мы не поймём, за что это... Понимаешь? Нам даже дёргаться никуда нельзя… Никуда… Я боюсь.
– Ну ладно, ладно…
– Погоди, – она скинула его руку. – Вспоминай, где мы накосячили? И… – она пристально посмотрела, – почему мы поссорились? Я как услышала, как вы с песнями идёте, меня затрясло. Ну как же так, завтра ехать… Гусь! Это он так к причастию готовится… К Рождеству…
– А ты не представляешь, как они вывалили с этим подносом! И Добрынечка забасил… прямо голосом героев Лескова или Гусева-Оренбургского… меня пробрало аж – насколько ничего никуда не девается! И душа запела, полетела, потянулась... эх, а ты её… срезала… Но только это не то… Что-то раньше!
– А я рассвирепела от статей этих липовых, которые ты зачитывал! Говорит, что времени нет, а сам про себя статьи валяет. Как не стыдно! Ещё и нахваливает себя!
– Да это не мои статьи!
– Да как не твои?
– Да так. Про куничку моя, а то письмо библиотекарша написала, я покажу тебе, если не веришь. И про «Фарт» тоже, это Броня Струкачёв. На сверку прислал. А про куницу я, чтоб тебя развеселить, написал – я же знал, что ты расстроишься из-за премии.
– Так ты знал?
– Про премию-то? Да конечно знал.
– А ты огорчился?
– Я возмутился. Но не из-за себя. Ну как так: я им русскую норму даю, а они её отвергают! Чо, сдурели?! – Баскаков заговорил с криминальной интонацией: – Не понял. Алё. Вы где? Ничо не попутали?
– Ну ладно, ладно…
– Да не-е… ну, правда. Время действие – наши дни. Написано – комар носа не подточит. Духовность – есть, народность – есть! Герои живые! Действие в сердце России! Чо надо?! Ммм… И тут эти пэтээсы ещё, – он помолчал и театрально провозгласил: – И ты лежишь.
– Я готовилась к исповеди… Все дни…
– Слушай, мне надо с отцом Львом повидаться. Насчёт как раз исповеди и причастия.
– А я посплю.
Он вышел на улицу, где извечные горожанки-трудницы перекатывали огромные тополёвые чурки… При всей знакомости картины она казалась блёклой, потому что перед глазами стоял яркий, будто резаком врезанный, оригинал. Такая же погода. Ветер с мороза закручивает меж монастырскими высокими стенами гостиницей. Хрупкая трудница в красной куртке с капюшоном склоняется к чурке. Длинная чёрная юбка, узко обхватывающая ноги, фигура, изгибающаяся неловко и тонко в коленях, нетвёрдо ступающие сапожки. Оливково-зелёная, бугристая чурка, с сучком в глазке бугра. За сучок липко цепляется чёрная полушерстяная юбка. «Миленькая, вы ж надорвётесь. Давайте я…».
Трудница быстро оборачивается: «Не надо, это моё. А если хотите помочь – помолитесь…». «За рабу Божию?..» – «…Елену», – негромко говорит трудница, глядя серыми глазами в розоватых веках, будто надутых ветром, и улыбается вдруг беспомощно и ясно. Застеснявшись неожиданной своей улыбки, поправляет лицо, и над верхней губкой горизонтальная рисочка белеет от мороза.
У Баскакова аж глаза зачесались. Подумал о том, с какой ученической старательностью, честностью Лена готовилась, как выписывала грехи, как переживала, боялась упустить. Послушно и кропотливо выполняла всю дорогу к исповеди, каждый её изгиб. Излучину. Исполняла слово. Как школьница. Но это не ученическая старательность – а единственное отношение. У него всё взросло, где-то подсокращал, что-то считал условностью, где-то стеснялся отца Льва, как знакомого, распределял по важности – это первее, а то напослед. Хотя тоже всё вроде выписывал. Но по-настоящему озаботился только вечером перед покупкой машины, когда в голове всё перенапряжено было беспокойством, опасением не выполнить завтрашний список дел. И исповедь не то что в одном ряду с ними стояла, но всё равно – дела поддавливали.
И выходило, Лена исполняла слово исповедь и выполняла. А он будто редактировал. Ловил себя на попытках порисоваться перед батюшкой, пониманием, своим служением идеалам. Чтоб батюшка сделал скидку, попротежировал… И хотя, застукав себя за этими поползновениями, моментально осаживал – выходило, что слово исповедь они с Леной проживали по-разному.
Для неё каждое слово имеет единственный смысл, не делится на дальнее-ближнее – вплотную стоит, впритирку, не качнёшь, не подсунешь лишнего. Оно её полностью простреливает, как током наполняет, и она сама этим словом становится… Поэтому и лежит как больная.
Отца Льва в монастыре не было, Баскаков сходил к нему домой. Когда вернулся, Лена не спала, сидела тревожно на койке.
– Что случилось?
– Как ты думаешь, сны кто-то сочиняет?
– Как? – не понял Баскаков.
– Ну, или я сочиняю, или во мне… кто-то? А если кто-то – то что он во мне делает?
– Лен, что случилось?
– Да мне сон дикий приснился. Аж проснулась.
– Ну расскажи, ну что такое? – он сел, обнял.
Она сняла его руку:
– Тяжелённая… Погоди, сядь вон напротив. Или чаю мне сделай.
Баскаков принёс кипятку.
– Ну рассказывай.
– Мне приснилась будто я улетела, всё как по правде, а потом мы с тобой будто сидим, как тем утром… и спорим. А на что спорим… Страшно сказать. Я от этого и проснулась...
– Лен, ну надо сказать.
– Спорим, вернее, продолжаем будто спорить на эту… машинку для посуды. Что мне эта машинка нужна прямо позарез. А спорим вот на что…
– Ты сказала на машинку.
– Нет. Ну да. Машинка – это выигрыш. А спорим…
– Ну!
– На… твои грехи.
– Как? Ничего себе искушение…
– Как-как?! Вот как ты должен был доказать тот весь список. Про пользу премий… Так же… – она заплакала, – не могу. Так же будто... будто… есть список, а там – те грехи, которые ты исповедовал тогда в Тузлуках… И мы на них спорим…
– Да как?
– Да в том-то дело, что я не помню, как… Знаешь, как во сне бывает. Всё складно. А проснулся и вспомнить не можешь… Ну а смысл такой, что ты говоришь, что всё исповедал, по списку. А я: «Нет, не всё! Что-то осталось! Не всё!» – прямо кричу. Понимаешь? «Не всё!». И если ты проспоришь, если я окажусь права, то… – она заплакала.
– То что? – почти вскричал Баскаков…
– То покупаешь эту машинку злосчастную!
– Ну всё, всё. Не плачь. Бредятина. Забудь и всё.
– Да как забудь?! Не могу. Ты скажи… Я знаю… ты такой вот… честный… – она всхлипывала. – И пишешь про честных… хороших… Я знаю… Только не сердись, пожалуйста, я понимаю, что нельзя так спрашивать… Я думаю: может это как-то с машинами связано? А ты… ты…
– Да, что?! Что «я»? Говори!
Лена будто собралась и сказала негромко и низко:
– Ты батюшке про пэтээс говорил?
– Про ка… – Баскаков и осёкся. И осмотрев комнату, будто здесь ещё кто-то был, сказал: – Не. Не говорил…
…………………………………………………………………………………...
– Они же, я ещё удивился, они три раза сказали: Толя, и каждый Напильник. Будто пытали меня. Сначала Толя намекнул, мол, хотим вас «ос-во-бо-дить от возможных неприятностей». Я, правда, не понял. Потом первый Напильник… обозначил, мол, снимаем с вас проблему, вы не хозяин будете. И казалось, достаточно. Но нет! Второй уже прямо открыто, прямо разжевал, что будет «человек, который столкнётся с той же проблемой»… Главное, зачем разжёвывать? На их месте понятней не заострять… Может им в голову не пришло, что это может остановить. Хотя… Не знаю.
Это же «Фальшивый купон»! Я узнал, но отмахнулся – больно хотелось машину. А что звонки с толку сбили, дерготня – это отмазка. И обстоятельства эти, Петины деньги, Артём с машиной. Они были как ураган по сравнению с этим купонишком. Я как травинка перед ним, сразу признал, что в рост не встать. Даже не рассматривал, сходу сдался. Вотт так вот. Пи-са-те-лёк…
Знаешь, бывает при полном алиби – ты всё равно виноват. И оно хуже, потому что все-то с тобой как с человеком, верят, что честный, а ты… Это как украл, а тебя оправдали за неимением. Как с ежиными рубахами. Вроде не до них и поздно... А дело во мне. Эх… У меня была конечно душевная подвижка забрать эти рубахи, но не решился тебя напрягать, стеснять стиркой. Другой бы решил не ездить и всё. Ни машину не морозил, ни колеса не порол, ничего. И времени полно светлого. А вот нет и всё. Не заеду. Это лучше. Выходит, так духа не хватило отказать и за обстоятельства спрятался.
А те и рады.
– Выходит, ты меня остерёгся напрягать ради друга. А я бы постирала! Надо забрать было… Я же тебе сказала… потом...
– «Потом», – раздражённо повторил Баскаков. – Да я так и собирался… А «потом»… постеснялся, тебя постеснялся… Думаю, разворчится… Выходит, думал о тебе хуже. Надо всегда эту первую подвижку, позывку слушать. Хм… – он улыбнулся: – У меня в детстве друган был Мишка Кузнецов. Решили играть в моряки и идти на север. Вернее, кто-то моряк, а кто-то его родители. Мишка мгновенно стал моряком и говорит: «Ну, всё отлично. Я тут коло полюса. А ты давай волнуйся». При команде «волноваться» я собрался головой вот так вот заболтать, – Баскаков быстро начал качать головой вправо-влево, – но думаю, Мишка решит, что я маленький, и официально занудил: «Ой, да что же это такое?! Ой, да как мы волнуемся?!», и за голову давай хвататься... Мишка как возмутится: «Да ты не так волнуешься! Вот как надо!» – и начал качать головой именно так, как я постеснялся.
– А ты волновался, когда я поехала?
– Да я тебя придавить был готов за то, что перед мужиками опозорила.
– Хм… А как ты думаешь, что означает этот Ваня? И его неинтерес к этим деньгам, и то, что гаишники его… призвали?
– Призвание Вани гаишниками… Знаешь… – мечтательно и задумчиво сказал Баскаков, – есть такие тайны Русского мира, которые трудно объяснить… и это такое счастье... Наверное, важно не тайну раскрыть, а понять, зачем Господь Бог тебя подвёл к ней... Хотя это почти одно и то же. Так… здорово… что не всё объяснить бумагами… А эти двое гаишников тоже с ним. С Ваней. Они из его поля… Поля… – вдруг задумчиво сказал Баскаков. И представил мутное поле, перетекающее трассу туманными потоками, вспомнил снежную руку, подхватившую Лену.
– А с Ежом? – вдруг насторожилась Лена. – Как с Ежом-то? Звонить будешь?
– Не-а.
– Как так? – спросила резко.
– Он меня в чёрный список занёс.
– А что делать будешь?
– Пойду.
– Пойдё-ёшь?!
– Ну.
– Он же орать будет, материть.
– Всё равно пойду.
– И терпеть будешь?
– Буду.
– И спасать будешь?
– Буду.
– И пить с ним будешь?
– Буду…
– И рубахи?
– И рубахи, всё… буду…
Лена покачала головой – будто у неё внутри всё закружилось от происходящего, и в сложности этой смеси, в её круговой поруке было теперь спасение.
– Мне так страшно стало, когда у тебя телефон отключился… – сказала вдруг Лена и снова всхлипнула. – А представляешь, в храм зашла… Литургия началась, и вдруг голова так закружилась, ты знаешь, у меня бывает… Приступ… Испугалась… Господи, помоги, Господи, помоги… – говорю. И вдруг чувствую, меня за руку кто-то берёт. Оказался врач… Потом на стульчике сидела. А потом на исповедь, и на причастие… Вот видишь, как борюсь… с бесами своими… – Лена прикусила губку. – В истине… вышла…
Баскаков сжал её руку:
– Здесь будем венчаться?
Она кивнула. Её голова снова лежала на его плече. Он голову гладил и тихо говорил:
– Будешь ещё чайники бить?
– Бубу, – всхлипывала Лена.
– И кричать на меня будешь?
– Бу-бу… – ещё больше захлюпала Лена.
– Позорить будешь меня перед мужиками?
– Бу-бу, бу-бу… – тряслись её плечи.
– Детишек рожать?
– Бубу…
– И ждать… если чо?
– Бубу…
– И волноваться?
– Бубу…
– Как будешь?
Она смешно покачала головой… Тут и у Баскакова по глазам как ветром резануло. Да и в окно навалился порыв со снегом. Растворил серую бетонную стену, и сквозь неё подступила и хлынула в очи суровая и древняя даль. И будто вернула к жизни, к новой полосе. Стало вдруг ясно, какой пласт пережит, и что грядёт следующий. Незнамо какой. И надо готовиться к исповеди, к Рождественским Чтениям. Лена тоже это почувствовала, словно холодный и сухой снежный ветр и её наполнил силой. Что-то знакомое, старинное, тускло стальное сверкнуло-перелилось в Лене и она воспросила строго и порывисто:
– Как к детям пойдёшь?
Не в смысле, как, мол, «осмелишься после всего», а как солдату говорят: «Готов, всё взял?». Ничего не забыл? Справишься?
И новая волна окатила Баскакова. «Господи, как же я вас люблю!».
Якорь
Баскаков отстоял ночь. Лена ушла раньше – голова кружилась… Поздним утром пошли к отцу Льву в его гостевую трапезную. Там всё было приготовлено со всей праздничной торжественностью. На большом столе грузди в сметане, в блюде драгоценный, будто гипсовый творог с сеточкой от марли, прозрачная красная икра – её прислали с Дальнего Востока.
За столом сидели гости монастыря. Молодая состоятельная пара из Томска, помогавшая монастырю. Бледный и значительный Леонид и Наташа, молодая женщина откуда-то из Ростовской области. Она была несколько наивная и время от времени что-нибудь, как сказала Лена, «вывозила», причём с улыбкой, означающей: возможно, я сейчас что-нибудь сморожу, но остановиться уже не смогу. Был ещё один священник, отец Владимир – крепкий, лысый, с круговой оторочкой и рельефным лицом.
Во главе стола восседал отец Лев. Звучал рассказ отца Владимира про то, как со школы он мечтал стать священником, а инструкторша из районного комитета его преследовала, и он едва не лишился аттестата. Спустя долгие годы случилась у него служба, после которой подошла женщина… И они встретились глазами. «Если бы вы эти глаза видели…» – негромко сказал отец Владимир. Некоторое время все молчали.
За столом у отца Льва никогда не было праздних бесед, всегда были смысл и тема, на которую он искусно направлял.
– Друзья мои, – попытался отец Лев и сейчас направить разговор, поглядел на Баскакова и вдруг спросил: – Книжку привёз?
– Привёз, батюшка, – весело ответил Баскаков и положил на стол «Фарт».
– Ну вот это правильно, а то… не дождёшься… – отец Лев говорил по-хозяйски, то распорядительски-грубовато, то с шуткой. – Ручку дайте классику.
Баскаков подписал и протянул батюшке книгу.
– Вот давно бы так. Ну так что? На пробу! – сияя, оглядел присутствующих отец Лев, открыл книгу в середине и, откашлявшись, начал читать, сначала громко, а потом по мере вчитывания всё вдумчивее:
«Писателем быть и счастливо, и стыдно. Стыдно, что кишка тонка имени не ставить под рукописью, и что на встречах у тебя совета спрашивают: как жить? А я какой учитель? Я так… снежок огребаю… Знаете, как у древних земноводных жабры снаружи, как веточка. Вот я – такой земноводный. Я раньше думал – какой же у меня огромный внутренний мир! А это не внутренний мир огромный, это жабрам есть куда простереться. Потому что внутри у меня от несовершенств тесно и душно. И всё лучшее в моей душе – это наружная веточка кислородного голодания по Русскому миру. И когда эта веточка сливается с его кроной – это и есть милость Божия».
Отец Лев, оглядел всех с загадочной улыбкой. Образовалась пауза. Потом улыбнулась Наташа и спросила:
– Как это наружные жабры?
– Это у некоторых древних земноводных. У аксалотля.
– У кого-о? – удивлённо спросила Наташа.
– У аксолотля.
– Это кто?
– Личинка амбистомы, – сказал Леонид.
– Ко-во-о? – ещё удивлённей, восторженней и осторожней спросила Наташа, и все засмеялись.
– Если эта личинка живёт в слишком холодной воде, то она так и не дорастает до амбистомы и начинает сама размножаться, – объяснял Леонид. – И у неё как раз жабры снаружи. В переводе в ацтекского аксалотль – водяная собака.
Наташа угрожающе улыбнулась:
– Раз дети писателя – книги, то его лучше в холоде держать? Чтоб раньше писать начал.
Все снова засмеялись. А Наташа вдруг спросила:
– Что такое литература?
– Ой, ну перестаньте вы… Ну не надо… Ну что вы! – наморщился невозможно Леонид, замахал руками, стыдясь и будто стрясая с себя вопрос.
– Леонид, я не у вас спрашиваю, – твёрдо сказала Наташа.
– Ну… – торжествующе и требовательно сказал отец Лев, будто что-то очень важное, им затеянное, достигло наконец заключительной фазы.
– Литература… – медленно повторил Баскаков. – Я не знаю… И знаю. В этом слове для меня есть что-то неловкое… Почему? Потому что существует как минимум три правды. Правда литературы. Правда жизни. И просто правда. Правда литературы и правда жизни – они как два провода, и им пересекаться нельзя. Хотя бывает, литературная правда ослабнет и спикирует к жизненной. И тут замыкание! Пробой поля! Искра какой-то единой, единственной правды. И она будто окно прожжёт, и что-то смертельно-личное – станет вдруг образом. – Баскаков замолчал, потом продолжил: – Вы знаете, наверное, нельзя пронзительней написать о России, чем Бунин и Шмелёв писали из своей эмиграции...
– Совершенно не согласен, а «Антоновские яблоки»? – фыркнул Леонид.
– Да тише вы с яблоками! – цыкнула Наташа. – Продолжайте, пожалуйста. Ужасно интересно!
– …Из своей эмиграции, – повторил Баскаков. – Знаете, что такое под «жвак»? Кто во флоте служил?
– Я служил! На Тихоокеанском, – сказал отец Владимир. – Жвако-галс.
– Истинная правда, батюшка! Это последний, или первый – откуда смотреть – кусок цепи, заделанный на палубе. Под жвак – это когда якорная цепь вытравлена полностью. До жвако-галса. Ещё говорят – заправиться под жвак – тоже полностью. Так вот, при всей длине э-э-э… бунинской якорной цепи, нет страшней эмиграции, чем та, в которой я находился, когда не знал этой… искровой правды. Вот отец… – Баскаков повернулся к отцу Владимиру…
– Владимир, – быстро подсказал отец Лев.
– …Отец Владимир рассказал давеча… Когда они встретились глазами, спустя жизнь… Понимаете? Я будто там стою! Это… до мурашек. Спасибо вам… Оно открывается, когда пишешь… об этой земле, вот прямо… стоя на ней! Как сейчас в этом монастыре. Ничего не надо ждать. Искать специально. Высасывать из пальца. Такое счастье… Это не литература. Это… Я не могу объяснить! Это ощущение, которого у меня раньше не было. Это ощущение… – Баскаков замолчал… И сказал с тихой силой и чуть хрипло: – Когда якорь под тобой. А литература – всё остальное!
– Шикардос, – прошептал Леонид и, привстав, пожал Баскакову руку и, кивнув, прижмурил глаза.
На Наташином лице вдруг появилась улыбка, и Баскаков приготовился к продолжению экзамена:
– Вот вы писатель… Я просмотрела книгу. Там всё больше про мужчин написано. У вас есть женщина? Я не имею в виду… бабушек. А вот женщина такая, вот... как я… – она посмотрела на Лену, – как мы? Вы можете сказать, какими нам быть?
– Вы знаете… Раз уж такой разговор… Это всё очень важно… Да. У меня есть женщина… И она только что попала в аварию…
– А-а… – ахнула Наташа.
– И когда я приехал, она была здесь… Вы спросили, кто женщина. Она хранительница… А мужчина защитник. Так и пойдём. Как шли.
Из трапезной гулко доносился шум. Зашёл монах:
– Отец Лев, сейчас в трапезной шоколад выдавали, всем не хватило. Что, ещё взять?
– Возьмите.
Монах вышел. Через некоторое время раздалось «Многа-а-я-я лета-а-а…».
Наташа вдруг неумолимо начала расцветать несуразной своей улыбкой:
– А разве… у кого-то день рождения сегодня?
– Да! – с торжествующей улыбкой ответил отец Лев.
– У кого?
– У Иисуса Христа!




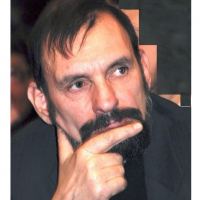
 Михаил ТАРКОВСКИЙ
Михаил ТАРКОВСКИЙ 


Гость # 5217, не ваша это проза. Она психологична, метафорична - при всей кажущейся простоте своей. Простоте - вроде бы даже до упрощённости. Ан нет, финал в такие пространства уходит, в которых побывал и старший Тарковский - Арсений, и тот, который помладше - Андрей, талантливый до гениальности. Вот теперь Михаил туда дорогу торит. Проза - очень непростая. И видимо, всё-таки не ваша. Прикоснулись - и отойдите. А не вострите зубки.
Интересно, если бы у этой повести значилось имя другого автора, не Тарковского, а какого-то неизвестного... неужто такие комментарии были бы?
Читал долго. Непросто. Тарковский каждый раз поражает неудержимым творческим поиском.
И здесь - он и прежний (из "Тойота-Креста") и "Полёта совы", и новый - с "почти" семейным героем. А ведь прежде автор не давал познать такое простое жизненное счастье героям своих повестей.
А еще герой открыт. Настолько открыт и искренен, что иной раз хочется зажмуриться, так опаляет его честность.
Но именно из-за этой честности он всё ближе к Достоевскому. Всё дальше от Л.Н. Толстого. Хотя и Толстовская пейзажность - как герой произведения, с энергией, не равнодушием к человеческим страстям, к подставленной вовремя "ладошке"...
Вчитаться непросто. Первую главу "Напильники" для начинающих читателей советую пропускать. Как бы это кощунственно не показалось. Вернетесь к ней позже. Она для профессионалов, если так можно выразиться. Она поиск художественной документальности. Попытка отразить бытовую ежедневность, чтобы показать, насколько непросто герою существовать в этом мире. Герою - писателю, человеку верующему, личности со страдающей душой и чутким сердцем.
К тому же умеющим предвидеть очень многое и в своей жизни и в жизни близких людей.
Потому что настоящая литература, которой и являются произведения Тарковского, это прозрение.
Это прорыв в иное измерение жизни.
Читайте с распахнутым навстречу слову сознанием ... попробуйте расширить свой зрительный и душевный окоём.
Спасибо Михаилу Тарковскому, что не боится заставлять читателя работать не за ради денежных знаков, а во имя смысла своего существования.
"Подфартило" - прочитала повесть! До конца! Но со второго раза...
Читала маме вслух, объясняя значение разных там "пэтээсок", "камрюх", "ходовочек", "калиточек" ... И не переставали любоваться и восхищаться удивительно ассоциативным и живым языком М.Тарковского. Увлечённо очень пишет о том, что хорошо знает и любит. Уже с самого начала повести ожидаешь чуда, которое должно непременно произойти в светлые Рождественские дни. Чудес дожидаешься, и они вполне реальны! Чудо - выжить в аварии! Чудо - помириться с близким человеком! Чудо - в церковных таинствах! А самое главное чудо - Родившийся Христос (и во всей Вселенной, и в душе человека). Светлая, добрая, по-современному рождественская повесть, в которой явлено и возрождающее пасхальное начало!
Спасибо Михаилу Александровичу за прекрасный пасхальный подарок:)
Прочитываю каждое слово, это мой писатель, познакомится бы с ним лично. Как заранее узнавать о встречах с читателями в Красноярске?
Люди добрые! Вижу, что читать эту повесть Михаила Тарковского начинали многие, но, судя по отсутствию отзывов, никто ее до конца не дочитал. А ведь Тарковский не из тех, кто "всуе" тратит слова. Нельзя не доверять автору, споткнувшись о "бытовое" начало повести. Оно сработает в финале этой повести - поверьте! - одной из самых важных и лучших за последнее время. Доверьтесь автору, дочитайте до конца, и вы не заметите, как вас затянут события, так тонко и точно передаваемые автором. Мне уже известны отзывы тех, кто дочитал "Фарт" до конца. Вот один из них:
"Последовательность моих эмоций при прочтении повести: не понимание;разочарование (вера в талант Михаила удержала);поглощение чтением;восхищение;радость за героев повести и гордость за Нашего автора!"
Я бы добавил еще: и радость очищения и разрешения тех проблем, с которыми сталкивается каждый из нас. Так просто, и так по-русски. С новой повестью всех нас - и читателей и - автора! Прочтите - непременно прочтите, и - восхититесь!