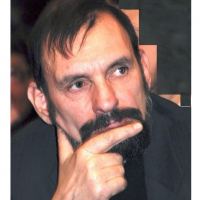
Михаил ТАРКОВСКИЙ. СЛОВО «ПОРА» И ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО. Беседовал Игорь Костиков
Михаил ТАРКОВСКИЙ
СЛОВО «ПОРА» И ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО
Беседовал Игорь Костиков
Мы договаривались об интервью с Михаилом в те дни, когда жюри Патриаршей премии по литературе 2019 года включило его имя в короткий список претендентов. Темой нашего интервью должна была стать его работа над новой книгой, посвященной бабушке писателя, Марии Ивановне Вишняковой. Женщине, сыгравшей исключительную роль в судьбе трех Тарковских: поэта Арсения, режиссера Андрея и писателя Михаила. В своих произведениях Михаил не раз говорил, что именно Мария Ивановна открыла для него двери в храм. И вот 23 мая, в канун Дня славянской письменности, Михаил Тарковский объявлен лауреатом Патриаршей премии.
– Михаил, поздравляю вас с присуждением высокого звания лауреата Патриаршей премии. Что значит для вас это звание? Расскажите, пожалуйста, какую роль играло православие в судьбе вашего рода в 20 веке?
– Думаю, что Патриаршая Премия – это первой руки награда сегодня. Конечно, это огромная честь и ответственность. Ну и… можно успокоиться по премиальной части. И работать.
О роли Православной веры в нашем роду, могу ответить в ключе нынешней своей работы над книгой: предки бабушки Марии Ивановны были священниками в Калужской губернии, причём в нескольких поколениях. О её прадеде Гаврииле Петровиче вот что написано в послужном списке 1833 года: «Поведения отличного, доброго, в должности при всегдашнем усердии и деятельности всегда исправен и при всем очень благонадёжен». Россия по-настоящему была Православной страной. Вторая моя бабушка, Мария Макаровна, когда я маленьким чертыхнулся, одёрнула меня: «Нельзя чёрта поминать». Даже в 60-е годы двадцатого века у выходцев из крестьянства представления о Боге и враге рода человеческого крепко сидели в крови.
– Кратко – в вашем очерке «Бабушкин внук», подробно – в «Осколках зеркала» Марины Арсеньевны Тарковской, вашей мамы, в кино – в бессмертном «Зеркале» Андрея Тарковского. Все эти произведения так или иначе посвящены вашей бабушке, Марии Вишняковой. Что заставляет вас сегодня снова обратиться к воспоминаниям о ней?
– О самой книге: нельзя сказать, что она только о бабушке. Хотя посвящена именно ей – примерно так же, как и фильм «Замороженное время», но с той разницей, что в этой книге (дай Бог её написать) бабушки намного больше, чем в фильме. Обратился к этой теме вновь по простой причине – время подошло. Каждый писатель в одно прекрасное утро произносит слово «Пора». Пора написать о детстве. Это было и с Толстым, и с Буниным, и с Астафьевым. Только некоторые сразу разрешались этими воспоминаниями, а другие отодвигали время, и причины могли быть различными.
Книга, о которой идет речь, называется «42-й до востребования». Она состоит из двух что ли основ, половин: первая – сборник рассказов о детстве, расположенных в хронологическом порядке. Вторая – рассказ о бабушкиной доле, своеобразная её биография. В первой половине, естественно, образ бабушки тоже должен быть дан. Я так уверенно говорю: «дан», «состоит», будто книга уже готова. К сожалению, это не так, и предстоит ещё большая работа.
– Каково это – писать воспоминания о близком человеке, имя и образ которого уже известны всему миру?
– Во-первых, я не думаю, что образ Марии Ивановны Вишняковой известен всему миру, по-моему, это преувеличение, а во-вторых, мне не приходило в голову рассуждать с этой точки. Наоборот, бабушка моя мне казалась всегда полной противоположностью «знаменитым представителям» именно в плане своего положения в тени. Скромности, простоты. К тому же для меня бабушка – это моя бабушка, и это чувство собственности, чувство нашего с ней, давало и дает такое плотное поле, что всё остальное остается за межой.
– Так что значит в жизни для вас сегодня это имя: «моя бабушка Мария Ивановна Вишнякова»?
– Вопрос-то серьёзный. Мне долгое время бабушка снилась каждую ночь, я писал об этом в повести «Отдай моё». Конечно просыпался под впечатлением, иногда даже душевно измученный… Теперь снится реже, и меня это беспокоит. Что она значит для меня? Ради этого книгу заварил целую. Вечный вопрос, вечная загадка: какая она была? Как жила? Почему я так мало о ней знаю? Конечно, и её душевное родство с моею матушкой… И что у меня маленький сын… И смотрит ли она на нас? Что чувствует? И эта вот его связь через меня с ней – тоже целый мир, целое дело. И глядя на маленького, я будто на себя такого же бабушкиными гляжу глазами. В общем, отвечая на вопрос «что она значит сегодня»: и загадка, и боль, и жизнь, и исток. Да всё значит!
– Круг знакомых вашего деда и бабушки, Арсения Александровича и Марии Ивановны, – Сологуб, Бальмонт, Даниил Андреев, Маяковский. В родовом дереве Марии Ивановны среди столбовых дворян Дубасовых можно обнаружить фигуры исторические, такие, например, как адмирал Дубасов. Вы сами не могли бы выделить среди предков деда и бабушки три-четыре имени, особо значимых для истории вашего рода?
– Хочется ещё раз сказать, что в книге речь идёт именно о предках Марии Ивановны. В книге присутствует исторический, так сказать, архивный момент, так же, как и история бабушкиных предков, каковые были дворянского происхождения по линии бабушкиной мамы, в то время как родова её по линии, как я уже говорил, отца происходила из династии священников, хотя сам отец её, Иван Иванович, был судьей в двух достославных городах – Козельске и Малоярославце. Малоярославец славен премногим, в частности, следами французских ядер на воротах монастыря (напротив которого и жили Вишняковы), а с градом Козельском, я думаю, у всех нас связан образ «злого города»-героя, не сдававшегося Батыю, и утопленного им в крови. Ну и конечно же города Скотопригоньевска из «Братьев Карамазовых», прототипом которого, естественно, и был Козельск, поскольку Оптина Пустынь от него в четырех верстах.
Что касается предков, то бабушке был духовно близок её дядя по отцу – Евгений Иванович Вишняков или дядя Геня, который учился в Московском университете на филологическом факультете и, видимо, имел в бабушкиной жизни большое значение. Для меня целая отдельная история – бабушка Вера, бабушкина мать, моя прабабушка.
С Сологубом дед виделся однажды, совсем юным, когда только приехал в столицу и пришёл к классику. Как в своё время молодой Бунин пришёл к Толстому. А к Бунину Валентин Катаев. Прикоснуться, прислониться, получить совет. Или благословение. Почему именно к Сологубу – я не знаю.
Про Бальмонта. Он жил в Шуе Ивановской губернии, и второй муж моей прабабушки Веры Николаевны, бабушкин отчим Николай Матвеевич Петров, студентом у него в дому учительствовал.
– Мария Ивановна и Арсений Александрович расстались, когда их дети, Марина и Андрей, были маленькими. До вас дошли отголоски этого расставания?
– Конечно дошли, но задумываться об этом я стал уже подростком, в раннем детстве ты всё вокруг воспринимаешь, как есть, и мне не приходил в голову сам вопрос: а почему бабушка одна живёт, без мужа.
– А уже вы – часто видели Марию Ивановну и Арсения Александровича вместе?
– Не часто, но были кое-какие запомнившиеся встречи.
Помню, когда дед сломал ребро, я уже был подростком, и мы с бабушкой поехали на выручку. Даже описал эту сцену в повести «Девятнадцать писем». Это не биографическое воспоминание, а скорее художественное размышление на тему…
«Дмитрий вспомнил своего деда, тоже ходившего на протезе.
Он ушел от бабушки, когда матери было четыре года, и через некоторое время попытался вернуться в семью, но бабушка его не пустила. Тут началась война, он потерял ногу и вскоре женился на медсестре из полевого госпиталя. Мать время от времени возила маленького Дмитрия к дедушке, чья нога составляла главную загадку его детства. То он видел деда в двух стройных брючинах, в одинаковых блестящих ботинках, то на костылях с подвернутой штаниной. И потом, когда он понял, что дело в этой красноватой и лакированной, как плавунец, штуковине, загадка все равно осталась, и была теперь в том, как же дед пережил эту нестерпимую боль и нестерпимую жалость к своей отрезанной ноге. Потом, уже гораздо позже, когда жена-медсестра лежала в больнице, дед упал у себя дома и сломал два ребра. Мать работала, и они поехали с бабушкой, которая так больше и не вышла замуж. Дед лежал на полу рядом с телефоном и стонал. Они подняли его и усадили на стул. Он был в простых ситцевых трусах, из трусов торчала белая как тесто культя, и дед сидел на стуле и плакал. А бабушка говорила с ним странным негромким голосом, и Дмитрий безошибочным детским чутьем уловил между ней и дедом напряжение какой-то до предела сжатой пружины длиной в целую жизнь – именно того единственного, что и имеет право называться любовью…».
– В детстве вы много хлопот доставляли бабушке?
– Хочется сказать «нет», но прекрасно понимаю, что доставлял – и упрямством, и неважнецкой учебой, но с другой стороны, если б меня не было – наверное и бабушкина жизнь была бы лишена чего-то... Я имею в виду, что забота даёт смысл, наполняет нашу жизнь, спасает от одиночества.
– Марина Арсеньевна и Андрей Арсеньевич получали от родителей разные прозвища, например – Мышик и Рыська. Вам бабушка дала какое-нибудь?
– Нет, у меня не было подобного прозвания. Я звался Мишкой.
– «Бедное, глупое детство» – говорит в «Осколках зеркала», возможно, с грустной иронией о своем детстве ваша мама Марина Арсеньевна. Вы свое назвали бы по-другому?
– Конечно! Какое-то завороженное пространство… окутанное такой тайной и притяжением, что я долго не мог к нему прикоснутся. Конечно, у нас не было войны, голода, эвакуации, поэтому мне легко говорить про своё завороженное состояние. Послевоенная пора была счастливой передышкой для нашего народа.
– Юрьевец, Козельск, Завражье… Вам не кажется, что Москва – как магнит, – вытягивающая население из малых городов, их просто отменила? Важнейший слой русской культуры, формировавшийся здесь, перестал плодоносить. И ваши с бабушкой поездки по городам и весям были ее долгим прощанием – с той, старой, уходящей Россией?
– Я почему-то не думал с этой стороны – с точки зрения вытягивания… Наверное для бабушки это было и жизнью, и прощаньем, и потребностью – поделиться с внуком, а может и передать ключи… Но, по-моему, никто ничего не отменял, и сейчас старинные те места ещё больше излучают древней силы. А в Оптину со всей страны люди едут. Когда там бываешь, то силу земли ощущаешь гораздо мощней, чем в Москве, где урбанистический и транснациональный фон настолько заутюживает очаги чего-либо старинного, древле-живого, что выйти на них и припасть – отдельная работа.
– У вас ведь есть рассказ, как еще в молодости вы с приятелем-шотландцем приехали глубокой осенью в Игнатьево на место съемок «Зеркала», и выпили там за память о том, как подростком жили вместе бабушкой на съемках фильма… Ностальгия вам свойственна? Как вы считаете – это действительно черта русского характера?
– Меня, не сказать, что восхищает это слово ностальгия. Не совсем понимаю нужду его вводить для замены уже существующего и весьма точного русского слова «тоска». Тоска – по пережитому, по переживаемому. Разве что для экономии слов… Достоевский в начале «Подростка» обронил о сочинителе, одержимом «тоской по текущему», – да, она несомненно является одним из главных условий существования художника, его формирования. Если честно, я не был в шкуре иностранца, поэтому не знаю, насколько они подвержены тоске. Допускаю, что тоска – свойство многих людей, но при этом русская тоска по Родине – это штука совершенно особая, и вряд ли на что похожая. Опять же удивительно, как и зачем именно русские «удирают» порой за границу, будто не боятся себя. Может ностальгия не у каждого в душе сидит. В общем, не знаю.
О тоске у меня: имею в виду тоску саму по себе, будто беспричинную. Помню, наваливалась в детстве, и я на неё обращал внимание, подпадал под чары, а потом пошла жизнь и я понял, что есть поважней вещи. А с другой стороны она, тоска эта самая, настолько привыкла, что я её моментально беру в оборот и приспосабливаю к делу – сочинительскому, – что ей проще носу не казать.
– Кого из знакомых или известных людей бабушка ставила вам в пример?
– Своего сына Андрея ставила, но только не впрямую, а путем постоянных рассказов-воспоминаний о том, каким он был мальчишкой: как он хорошо пел, как запоминал мелодии с первого раза. Какой был на все руки способный. Как всем интересовался. Так порой хвалила, что я полным дуралеем себя чувствовал, но славу Богу, не страдал ущемлением самолюбия и не переживал – жить было слишком интересно. Или рассказ о том, как Андрей Рублев шарахнул об стену кусок глины, не в силах писать страшный суд. Шарахнул (она показывает размашисто рукой) – и все! Без объяснений. Просто – называньем. Раз уж о Рублеве: просто говорила «Троица», как будто этого было достаточно, будто вбивала репер в душу, мол, смотри: я тут поставила бакен, потом разберешься. У неё отсутствовала способность к пространным рассуждениям, раскрыванию смыслов. Она лишь обозначала направления.
А о людях-примерах. Вообще солдаты, которые терпят… Суворов – это в случае прищемленного дверью пальца и моего воя, или когда пить охота, а вода далеко... Кутузов конечно же… Из писателей ей почему-то ещё и Горький нравился, не знаю только насколько. В Горьком-городе ходили в музей, когда путешествовали на пароходе по Волге.
– Вообще, был у Марии Ивановны любимый автор? В чем ваши литературные пристрастия расходились, или расходятся сейчас?
– Пушкин, Толстой, Достоевский. Но повторюсь, она не делала заявлений вроде такого: «Толстого я очень люблю». Она рассказывала о его героях, сначала, допустим, просто произносила имя, забивала образ, а потом могла пересказать кусочек сюжета. Наверное, само называние предполагало её расположение и к автору, и к героям. А герои книг были для неё старинные и абсолютно живые знакомые – Каратаев, князь Андрей, княжна Марья, Алёша Карамазов, старец Зосима. При этом она могла так же умиляться каким-нибудь Дарреллом и его юморком, хотя, я думаю, внутри себя она понимала, кто чего стоит. Вообще, у неё не было границ как у нас: такого жёсткого и священного деления на русское – не русское, своё – не своё, какое бывает, когда крепко прижмёт враг и живёшь, будто в оккупации. Тогда и русское, и советское – семейно-многонациональное – не находилось под таким ударом, как теперь, и они были дома, и из его уюта позволяли себе интересоваться всем земным шариком. А может быть сказывалось унаследованное отношения – такой… что ли, русский вселенский подход к культуре, о котором писали Достоевский и Блок. Да, в принципе всё это одно и то же…
В шкале её ценностей главным было упоминание – эта забивка сваи, о которой я уже говорил. Сваи были двух типов: сваи-имена – и сваи-книги, сваи-стихотворения. Сваями-именами были: Блок, Гумилев, Толстой. Сваями-стихотворениями: «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Белеет парус одинокий», «Люблю грозу в начале мая», «Еще бокалов жажда просит»...
Совершенно не упоминала Бунина. Как будто его не было, хотя в 1956-м году уже вышел пятитомник. А насчёт несогласий с её пристрастиями… Сказать сложно. Она читала и давала мне читать огромное количество разной, даже скажем, разносортной литературы. И образовательной, и переводной, и всякой-разной. Но мне сейчас трудно сказать о её истинном отношении к той или иной беллетристике.
– Вашего дядю, Андрея Тарковского, родители крестили вскоре после его рождения, в храме Рождества Богородицы в Завражье. Вы крестились самостоятельно, в православном храме Вильнюса уже взрослым женатым человеком. Можно сказать: почему этого не случилось в детстве?
– В детстве как-то вопрос не стоял… И я не знаю, почему бабушка меня не крестила… Скорее всего, в моё время уже общий фон не тот сделался. Примеров не было… а тогда ещё прабабушка Вера жива была. Ну да, никто и не повёл меня крестить... Может это сложно было… А может Господь Бог сам так управил – чтоб человек пошёл в Храм осознанно. Когда подрос, и обозначился-вызрел круг представлений о мироустройстве. (Уважаемые пассажиры, наш самолет набрал заданную высоту, можно расстегнуть привязные ремни и задуматься о главном…) Во многом, и даже в основном, круг этот был сформирован русской литературой, общим духом прежней жизни, образом русского человека именно как человека православного. И представлением о служении России именно в этом образе. И необходимостью принять эстафету. Хотя и окружающие люди тоже повлияли, конечно же. Да и походы в церковь с бабушкой.
– Не замечали – Мария Ивановна разделяла времена своей жизни на «хорошие» и «плохие», вспоминала какую-нибудь пору как самую важную или самую счастливую для себя?
– На плохие-хорошие не знаю. Она никогда не жаловалась. Не рассуждала, не обобщала. Были обиды на людей… А по счастливой поре – возможно это пора её жизни на Волге, уже взрослеющей, в последних классах школы.
– Вспомнить энтузиазм и жажду обновления, которые охватили значительную часть населения после революций 1917-го и Гражданской войны, и – разброд, шатание и апатию, постигшие нас после относительно мирного переворота 1991-го и распада Союза. Не думаете, что это очень похоже на завязку одной истории в 1917-м и её развязку в 1991-м? Истории, которая по завязке почти совпала с вхождением в жизнь ваших деда и бабушки?
– Мне кажется чего-чего, а апатии не было в 90-х, были надежды, разочарования, но ярость и тугота выживания были настолько сильными, что с апатией были несовместимы… Была надежда на народное разрешение картины – за счет энтузиазма, смекалки, трудолюбия. Про города не берусь судить, там было по-другому, но именно мы в те годы занимались освоением тайги, а кое-кто и освоением литературной тайги, поэтому никак не могу назвать апатичной ту пору, наверняка более жестокую в остальной, городской России, чем в тайге… Эх, было наивное ощущение, что справимся сами, только не мешайте, не суйте несуразицу, а помогайте тем-то и тем-то, разумным, нужным. Ради нас, не ради себя… И конечно же была ещё и гордость за эту брошенность, наверное, в «Гостинице Океан» это ощущение мной прописано.
А потом открылась сущность буржуазного переворота… Да, более, конечно, мирного, чем та революция, но обернувшего скидыванием с корабля современности всей русской истории, уже и православно-самодержавной и социалистической. Причём таким я бы сказал исподтишковым ползучим способом. При хороших вроде бы словах даже о патриотизме, но параллельном пересмотре вековечных основ. Вот, например, что любой школьник может в свободном доступе «нарыть» на экранчике телефона: энциклопедия юриста: «Свобода совести – это свобода морально-этических воззрений человека (т.е. что считать добром и злом, добродетелью или подлостью, хорошим или плохим поступком, честным или бесчестным поведением и т.д.)».
И это без смеха, на полном серьёзе написано на третьей или второй позиции, как только наберешь слово «свобода совести». Вопрос задал мой сын – в школьной программе есть такая тема.
Поэтому конечно есть общее и в той революции, и в этой, за исключением одного важного момента – та революция совершалась во имя трудового народа. А эта во имя кого? Трудовой народ нынче с повестки дня вы-ки-нут!..
– И все-таки один, для вас самый светлый и памятный день, проведенный с бабушкой. Можно назвать такой?
– Не хочется конечно отнимать от книги раньше времени… Поход за грибами, когда я уже по-взрослому с ней соревновался… Ну и конечно Пасха в Новодевичьем, и Лавре в Ленинграде.
– В этом году исполняется 40 лет с того дня, как Мария Ивановна ушла из жизни. О чем вы спросили бы Марию Ивановну сегодня?
– Сокровенный вопрос. Сначала ломал голову… Потом перестал. Вот вопрос: чувствует ли она, как я её люблю?..
г. Красноярск




 Михаил ТАРКОВСКИЙ
Михаил ТАРКОВСКИЙ 


Михаил, судя по последней фразе диалога: "...чувствует ли она, как я её люблю?..", задумка новой вашей книги очень масштабна в плане духовном.
Дай Бог вам успеха в решении этой сверхзадачи. Перехода на новую ступень творчества.