Валентин ГОЛУБЕВ
НАД СНЕЖНЫМ ПОЛЕМ АНГЕЛЫ ЗАБВЕНЬЯ…
* * *
Моей маме Серафиме
От Фонтанки декабрём блокадным
вдоль разрух к Никольскому Собору
мать идёт (а я ещё «за кадром»)
и несёт подарочек с собою.
Семенит, ведь еле держат ноги,
по Сенной, над нею снега зёрна,
с хлебушком, чтоб дать потом убогим,
бережно в кармане припасённом.
Между артобстрелами затишье
от врага, мол, малость пожируйте…
А в коморке дворницкой детишки
ждут у остывающей «буржуйки».
Батюшка скорбит от аналоя
на прореху в стенке: – Помоги нам,
Господи… Осталось только трое
певчих, остальные – по могилам…
А меня здесь нет ещё в помине,
нет ещё в записочках заздравных,
это уж потом дадут мне имя
здесь, в купели, и признают равным.
Я в конце сороковых явлюсь здесь
сорванцом, хотя ещё младенцем,
матерью гордясь, мол, полюбуйтесь
на сиё молитвенное действо!
Выживут и брат мой, и сестрёнка,
тешась кипяточком с сухарями,
и отец живым вернётся с фронта.
Знать, Любовь какая-то над нами.
ПАРК ПОБЕДЫ
Нынче парк, где когда-то кирпичный завод
исходил сладковатым дымком похоронным.
Слышу голос, как будто бы кто-то зовёт:
– Помяни нас…
Вокруг лишь скворцы да вороны.
Может встречу своих, по дорожке бреду,
пусть не сразу узнают и спросят: – А кто ты?
Вон часовня за прудом на том берегу,
прах развеян под сенью креста и ротонды.
Той блокадной зимой лишь присниться мог хлеб,
и не в силах принять были мёртвых могилы,
и вдоль улиц лежали без спроса и треб
их тела до весны на морозе нагими.
Торопились полуторки-грузовики
с той поклажей – для мёртвых шлагбаум был поднят,
вагонетки летали там, как челноки,
в раскалённое жерло печной преисподней.
Ни прощаний, ни слёз, и никто не споёт…
Помянуть по-людски – перед мёртвыми откуп,
потому кочегарам усилен паёк –
по сто граммов на брата наркомовской водки.
Это было давно. Не осталось почти
тех, кто выжил случайно и был очевидцем.
Дети потчуют птичек зерном из горсти,
и дымок непонятный над парком клубится.
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЮ
И что тебе сердце, так горько?
Июньские полдни тихи,
Цветёт бузина на задворках,
Молчат по дворам петухи.
Не слышится песня с покосов,
Быть к вечеру, видно, грозе.
Пойду вдоль полей до погоста
Проведать отцовских друзей.
Лихая година… Россия…
Волненья сдержать не могу.
Какая забота и сила
Здесь путь преградила врагу!
Забудусь,
нахмурится небо.
Почувствую вдруг на щеках
Дождинок холодную нежность,
Далёкого горя раскат.
* * *
Герои не успели постареть,
Они – земли сиянье и свеченье,
Уснули у притихших батарей
Давно уже минувшего сраженья.
Они ушли в тот вечный переплав
Лугов с цветами, пашни с перегноем,
Зелёною ракетой отпылав,
Последнею,
сигнальной перед боем.
Они остались в памяти земной
Пехотой на Синявинских болотах,
Подлодкой, не вернувшейся домой,
Иль раненым смертельно самолётом.
Невесты их, с другими постарев,
Других любили, о судьбе печалясь…
Они же, в танках факельных сгорев,
С их душами пред Богом обвенчались.
ШАЛЬ
Чтобы плакать – тоже нужно настроение.
Слёзы старого человека –
это сорвавшаяся с привязи печаль.
К празднику надежды – Христову Воскресению
Подарили бабушке новую –
почти совсем чужие люди – шаль.
Ей, войной обобранной, – не коврижки сдобные,
А судьба овсяная, пища голубиная, сиротства произвол…
Что же вы наделали, люди мои добрые?
Всех уже простившей,
Опоздав, расщедрились: – Получи, изволь…
ВЕТЕРАН
Припомнил жизнь свою старик:
«Чудно!
Да мне ли довелося?..»
Распахнут жёсткий воротник,
Зажата в пальцах папироса.
Чтоб не тревожили его,
Глухим сказался домочадцам.
Темно ль за окнами, бело…
Сидит он тихо час за часом.
Неужто это было с ним?
Да, полно!
Быть того не может.
Нелеп,
как жизнь, необъясним
Сквозь время голос, что тревожит:
– Не пропадай, прошу тебя!
Мы потеряемся, как дети,
В просторах белых декабря,
Среди дорог и лихолетий.
В толпе шинельной,
в давке тел
Взгляд обжигал его, был близко…
Он оглянуться захотел –
Так и не смог, толпой затискан.
Он пил за дружеским столом,
Пел с хрипотцой, забыв весёлость,
Он думал – жизнь пошла на слом,
А это лишь ломался голос.
Забыв про сон и про еду,
Судьба в строю кричала: – Левой!.. –
Через войну,
через беду
Проволокла – не пожалела.
Он жизнь прожил, как будто был
На празднике, что шёл на убыль.
У девушек, что он любил,
Теперь уже поблёкли губы…
Гремит посудою сноха,
И внучку манит грай весенний,
Лишь в комнатушке старика
Иных времён витают тени.
Среди живущего всего
Он жив лишь тем далёким счастьем.
Чтоб не тревожили его,
Глухим сказался домочадцам.
* * *
Русским солдатам, погибшим в плену
Лишь за то, что мы крещёные,
По законам Божьим жили,
Нам удавочки кручёные
Заготовят в псовом мыле.
Казнь страшна не пыткой вычурной,
Не топорной смертью близкой,
Жалко, батюшка нас вычеркнет
Из своих заздравных списков.
Снеговой водой обмытые,
На полу лежим бетонном.
Притомились наши мытари,
В уголочке курят томно.
Мы уходим в небо.
– Вот они! –
Закричат псари вдогонку.
И по следу псы да вороны –
Наш эскорт до алой кромки.
Я не плачу, мне не плачется –
Запою у края тверди.
Исполать тебе, палачество
За моё призренье к смерти.
ДИДОНА
В Карфагене к морю вниз по склонам
у гераней* путь старинный избран,
а под Псковом в мире заоконном
их сестрёнки нежатся по избам.
Здесь январь, в стекло снегирь стучится,
чтоб в саду цветущем оказаться,
там Дидона – вдовая царица
бродит среди райских декораций,
где дубы ветвятся над полынью,
средь олив – ягнята в альфах-травах,
туи занесло горячей пылью
и герань повсюду – нет управы!
Кот среди горшков цветочных тужит,
за окошком снежная Сахара,
зимний день почти до полдня сужен,
без листвы деревья сухопары
и черны, и в стужу неодеты,
светится лишь кустик краснотала.
Канула любовь её в легенды,
в поисках Дидона заплутала,
мчит сквозь жизнь преданий колесница…
И морозным утром, блёклой ранью
женщина к нам в двери постучится
тихая, с букетиком герани.
–––––––––––––-
*Герань – по мифологии хранительница любви, дома, здоровья.
ЗИМНЕЕ
Чертополох бессонниц, сновидений,
затменья зим, забвенья полустанков –
как ни храбрись, а никуда не денешь,
стаканчик выпьешь вечером «с устатку».
Дрова колол, дорожку сдобрил щебнем
к колодцу, на щербатом блюдце
орешки вынес. Под луной ущербной
пусть утром белки к трапезе сойдутся.
Всё б ничего, но печка ненасытна,
сжирает в жерле, словно макароны,
дрова. На запах из печного сита
к трубе слетятся галки и вороны.
День куц и сер, совсем как птица зяблик,
И снег большой пока ещё не грянул.
Душа любимой среди мёрзлых яблок
Сверкнёт над садом отблеском багряным.
Ещё не вечер! Жизни свет уходит…
Как мне с январским миром примириться?
Усну. Приснятся райские угодья,
и знойные объятия жар-птицы.
ПЕРВОРОДСТВО
Здесь дрозды атакуют ворон,
А под окнами ёжики бродят,
И, со всех окружая сторон,
Лес грозит садовода угодьям.
Здесь не знаешь, чему угождать:
Иван-чаю в цвету, гиацинтам?
И меж ёлок тебе – благодать,
Хоть и сада Эдемского сын ты,
Где Праматерь, вкусившая плод,
Знать не знала о судьбах потомков:
Коз пасти и терновник полоть,
Сквозь судьбу продираясь с котомкой
В первородство, к запрудам лесин
На бобровую речку, к лосятам…
Вышло так! Как ни кинешь – всё клин
Журавлиный иль в поле овсяный.
А с утра малахольный телок,
Чтоб похолили, ломится в двери.
Малосольный огурчик – нам впрок,
Коль в чести и посты и поверья.
И вопрос выживанья ребром
Жизнь поставит куриною лапкой.
Где-то шахты, в степях космодром,
Здесь мы семеро в доме по лавкам.
Песню ль спеть про шумящий камыш?
Но стоит твой стаканчик не выпит,
Вспомнишь что-то, на шутку смолчишь,
Вдруг да снова Чернобыль да Припять.
ВАСИЛИСА
Любит подружка моя веселиться,
может ей ларчик заветный открыли?
Облако в небе – ей тень василиска –
ящера хвост, петушиные крылья.
Мнит Василиса быть к тайнам причастной
скороговорок и кладов сорочьих.
То к ней синицы в окошко стучатся,
то домовой рассмешит среди ночи.
К речке бобровой, к запруде глубокой
ходит в бегущие струи глядеться.
А улыбнётся – в глазах с поволокой
лучики сказок далёкого детства.
Где-то за лесом гремят автодромы,
вышки торчат виртуального мира.
Спросят её – я отвечу: – Нет дома!
Вы проходите, как Времечко – мимо!
У Василисы расставлены вешки
в чащах, чтоб я там не потерялся,
чтоб обошли нас и нежить, и леший,
чтобы их злоба растаяла зря вся.
Сколько ещё миловаться осталось,
нежиться сколько в угодьях сорочьих?
Ну а в конце, когда грянет усталость,
в поле уйдём и растаем средь ночи.
* * *
Заматереют, удлинятся зимы,
укоренятся блажь и домоседство,
и выйдут в люди ангелы забвенья.
Уже с трудом, но всё ж вообразимы
в снегу сарай и сад, и привкус детства
молочно-толоконный… Рвутся звенья
связующие утварь первородства:
горшки и сбруи, и салазки-ложки…
с утратами поблёкшего рассудка.
Айда в снежки... Готовы побороться,
потешиться… Но приторны и ложны
потуги. Старость не даёт нам спуска.
Устала плоть и поутихло рвенье.
Истлело Время пажитей и пасек.
Соседа кликнешь – нет тебе ответа!
Над снежным полем ангелы забвенья…
Во сне сижу за партой в первом классе,
блуждая в мутных дебрях интернета.
МИРАЖ
Белые деревья декабря,
солнечная, хрусткая дорога.
Может быть, увидим глухаря,
так замедлим шаг хотя немного.
Может быть, лосёнок-стригунок
выскочит из-за деревьев лихо,
может быть, за этот вот пенёк
спряталась ушастая зайчиха.
Или вдруг объявится лиса…
Но смеётся девочка: – Откуда?
Там за поворотом корпуса
ядерного института.
Там реактор дышит горячо,
проводов причудливо сплетенье…
Мы идём. Лишь мягко за плечо
веточка сосновая заденет.
В этой сказке мы с тобой одни,
так любуйся чудом декораций!
День погаснет, звёзды и огни
странные над лесом загорятся.
* * *
Причудлив мир.
Бог дал всему названье
и назначенье, но поставил веху.
Так в разных измереньях мирозданья
мир муравья, обитель человека.
Учёные томились: слишком ярок
луч истины и длится слишком кратко…
Оптические стёкла окуляров
не помогли им разгадать загадку.
Из глубины предгрозовых потёмок,
взглянув на землю, ангел улыбнётся:
на привязи дороги,
как телёнок,
посёлок посреди полей пасётся.
БАННЫЙ ДЕНЬ
Больному клюкву, пироги несут ли,
иль чушь благую, чтобы полегчало.
А он в бреду почти вторые сутки
всё просит банный веник и мочало.
К нему призвали батюшку из церкви,
чтоб исповедать грешника в дорогу.
А он черпак ладонью ищет цепкой –
парку ещё прибавить хоть немного.
Лоб серебрится капельками пота,
как реки по весне, набухли вены.
Ему предстать пред Богом неохота,
не смыв с себя житейской нашей скверны.
Как в молодость вернулся, где в начале
был и любим, и от сует свободный..
Старинные друзья ему кричали:
– Пора и к нам, под ковш воды холодной…
А стоило ль на лавке так вертеться
И плоть хлестать, чтоб даже веник гнулся?
Ведь зеркало его же полотенцем
завесят, чтобы вдруг не оглянулся…
* * *
На мартовской речке заторы, зажоры…
И льдины друг друга подмять норовят.
катаясь на льдинах, вороны-мажоры
кричат, что пора им кормить воронят.
Где домик на взгорье нахохлился вдовий,
с путинных застолий всё ждут рыбака.
В осиновых лапах из мисок-гнездовий
птенцы наблюдают за всем свысока.
Поживой какой там вороны жируют,
с моста жердяного пикируя вниз?
Иль в мутной воде ловят рыбку живую?
Непросто! Но очень уж сладок изыск!
Вот-вот и пройдёт ледниковый период –
лет сто и неделя, а там – лепота
весенних соцветий. Почти оперилось
воронье отродье, хоть пусть без хвоста…
Оставьте! Забудьте, куда-нибудь деньте
тревоги средь солнечной сей кутерьмы!
Растаяли пусть, обесценились деньги
завалов серебряных сонной зимы.
Крикливым воронам кричу я: – За речью
следите! А то, ишь, раскаркались как!
А ночью аукает кто-то за речкой,
наверно, пропавший в путину рыбак.
* * *
Был удушлив закат и багров,
жизнь вокруг обмерла и заснула,
от стартующих антимиров
купоросным дыханьем пахнуло.
Это кто-то придумал хитро:
и пробирку как жизни начало,
и на хлеб наш поставил тавро,
чтоб машина потом сосчитала.
Мать-природа, за нас порадей,
отодвинь срок последнего часа.
Говорят, от кислотных дождей
наша рощица вовсе зачахла.
Может, злое над всем колдовство,
как-то птицы продолжат здесь род свой?
если мир обречён на вдовство,
я, как сын, обречён на сиротство.
Божий разум, в беде не оставь.
Я ещё не исчадье, а чадо!
Только звуки небесных октав
глуше всё, да и слышу нечасто.
Вот он мой наступает черёд.
Поздно спрашивать: мило ль, не мило…
Словно Чичиков, души гребёт
вертухай виртуального мира.
Зверь невиданный бродит окрест
и в окошко ночами стучится.
Из какого копытца – невесть,
суждено мне в дороге напиться…
* * *
Блуждая в снах, проснусь на сеновале
в пустой деревне, словно после мора
осиротели избы, что знавали
царя Гороха, помнят гегемона.
Здесь у ворот коты сторожевые
урчат, как псы, и выгибают спины.
Аукаю, быть может, есть живые
в строениях из мха и древесины.
В амбарной мгле, наполненной мышами
снопы истлеют, позабыв о солнце.
Раздолье кошкам, барствуют: мы сами
с усами и в хозяйстве разберёмся!
Уже дичками яблони набрякли,
ушли в бурьян ромашки и левкои.
Здесь мир другой.
И даже в снах навряд ли
его так просто можно беспокоить.
ХУДОЖНИК
Уже был кол раздора в души воткнут,
в октябрьском поле колкая стерня…
Стакан нарисовал художник Водкин,
Петров – купанье красного коня.
Пусть веет образ и таится символ,
где по прямой короче не всегда
взойти, где Богоматерь шепчет: – Сын мой,
над Вифлеемом первая звезда!
Сияет Вечность, душит дней короста,
игру цветов, похожую на кич,
живописал, хоть это и не просто,
как староверу бороду постричь.
Где суета, где суть, когда из окон
дворянских
пьяный свист и перепляс?
Он заказной у Времени изограф,
или калика нищий, богомаз?
И чтобы в жизни был он осторожен,
не по наитью жил – наверняка!
Предвидя всё, отец его сапожник
порол по будням впрок озорника.
ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ
1
Короткий век был отроку отпущен
от вскрика жизни и до смерти вздоха,
от колыбели в петергофских кущах
до сумрачной ипатьевской голгофы.
Когда с улыбкой страждущим гостинцы
дарил, он думал о себе едва ли…
И сквозь рубашку радужного ситца
за плечиками крылья пробивались.
Мальчишку нянчил боцман Деревенько,
мальцом дивясь – ему присмотр напрасен!
Да что там! Жизнь – приступочек, ступенька
в другую суть, к нездешней ипостаси.
2
Играет ли с сестрёнками, шалит ли
с детьми прислуги, а в глазах печаль…
Вот на таких под вздохи и молитвы
мол, «не жилец…», поставлена печать.
В обнимку ходят радости и горе,
нет между ними ни оград, ни стен.
О нём молилась старица в затворе,
провиденьем не поделясь ни с кем.
У палачей он ни о чём не спросит,
услышав: – Забери своих с собой…
Откроются пред ним и высь и просинь –
в нём слишком много крови голубой.
ПОЕЗДКА В ЛЕС
От праздных гульбищ площадных по полной
хотелось оторваться, в лес уйти
туда, где ель, прикинувшись поповной,
под белою попоною грустит.
И в храм войти, где все в одеждах белых,
где сдержан панегирик снегирей,
и где, пугая стаи рыжих белок,
стучит занудно дятел-иерей.
Под Выборгом, где тропкой, где просёлком
без выбора, а по наитью – в глушь,
туда, где лось пасётся у посёлка
вокруг стогов, у сенокосных кущ.
На поводу желаний и пристрастий,
без повода туда, где тонок лёд,
идти, где рыбачок раскинул снасти,
и по воду селяночка идёт.
Быть здесь своим – не просто очевидцем,
Неся подарков полный рюкзачок.
Жизнь хороша!
И даже удивиться:
как солнышко январское печёт!
МИР СОКРОВЕННЫЙ
Внучке Насте
1
Дом свой оставлю для жителей новых,
стану травою на Божьих покосах.
Матери песня над зыбкой сосновой –
весь мой зажиток и в старости посох.
Вспомню забытые Ладо и Лихо,
зайцев, пригревшихся в дедовых шубах,
бабушку Дрёму, сову-усыпиху,
птиц, что зимуют в колодезных срубах.
Сказкою дышат на окнах узоры,
бытность обыденной быть не желает,
в мире, увиденном маминым взором,
мудрая живность и утварь живая.
Мир этот спрятан от глаз, сокровенен
в памяти светлой и в памяти горькой.
Белые косточки юных царевен
Рощей берёзовой светят на взгорке.
2
– Спи, раз болеешь, иль в город уеду
с «зайцами» вместе на электричке, –
это уже колыбельную деду
Настя заводит, сплетая косички.
– Ты посмотри-ка, – скажу, – а на грядках
ночью жар-птица оставила перья.
Скоро играть научу тебя в прятки,
не торопись… Набирайся терпенья.
Яблоко радости вызреет грустью
в самую лисью последнюю осень.
Встану под яблоней – ветки опустит,
спрячет меня, будто не было вовсе.
СТАРИННЫЕ ЛЮДИ
Когда просветлеет вода сентября
в реке обмелевшей и день поубудет,
стихаем, смолкаем, уходим в себя,
прижавшись друг к другу, старинные люди.
За ужином лампа, сгорая, мигнёт,
другой не найдётся, и свечку затеплим.
Где в запахах царствовал в мисочках мёд,
повеет в жилище и тленом и пеплом.
За дачным леском в жестяную дуду
нас поезд окликнет, промчит, не услышан,
и птицы хохлатые в стылом саду
помянут нас пьяною ягодой вишен.
Рядить уже поздно: Ах, как? Да кабы…
Ты светом лучилась, и я был не промах,
обнявшись, в игольное ушко судьбы
проходим
меж туч в ледовитых проломах.
Спешим, знать, ещё до себя не дошли.
Уходим молчком, будто не с кем проститься.
Идут по пятам то снега, то дожди,
то грозы вдогонку грохочут копытцем.
Не сможем ни совесть, ни пса усыпить,
кота на соседкину милость оставим.
Колодезный ворот сорвётся с цепи,
и окна захлопают веками ставень.
Вот-вот догорят георгины огнём
прощальным и просятся: лучше сорвите…
Позволь, мы с собой их в дорогу возьмём,
Господь, попустивший благое соитье.
И сторож садовый свою конуру
оставив, ещё у ворот станет клянчить:
– Эй, сладкая парочка, где вы? Ау…
Налейте страдальцу стаканчик.
г. Санкт-Петербург




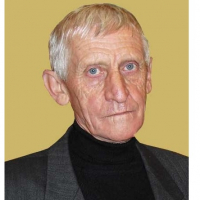
 Валентин ГОЛУБЕВ
Валентин ГОЛУБЕВ 


Хорошая русская поэзия. Со знаком качества.