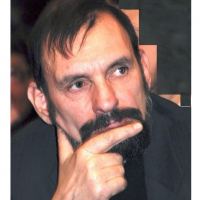
Михаил ТАРКОВСКИЙ. ЧЁРНЫЙ БЫК. Из книги «42-ой, до востребования»
Михаил ТАРКОВСКИЙ
ЧЁРНЫЙ БЫК
Из книги «42-ой, до востребования»
РЕЗОНАНС
Длинными были городские зимы, плотными, и в памяти слёживались в пласт. Летние же месяцы богаче и ярче.
Начиная с предшкольного лета жили мы с бабушкой в Калужской области на Оке, в четырёх верстах от Тарусы вверх по течению. Деревня называлась Ладыжино, и первые два года мы снимали полдома у статной старухи по имени Василиса Давыдовна. Она носила фамилию Паращенко, была украинкой, хрипловато-зычно и напевно вещала в пространство, передвигаясь по участку, и я её побаивался.
Дом наш стоял на самом конце деревенской улицы, целящейся на Оку. За домом лежало поле пшеницы, а под ним внизу за сосновым перелеском текла в клубах ивняков Ока, домашняя и игрушечно узенькая. Тогда она казалась широкой и полноводной, а когда увидел её годы спустя, то глаза всё искали за зеленью ивняковых куполов главное русло, словно виднелась лишь протока, а истинная Ока протекала где-то там, поодаль, в зелёной клубящейся дали.
Жили мы лицом в поле, которое начиналось сразу за забором. К середине лета за калиткой стояла ровная и словно каменная стена пшеницы. Крыльцо выходило в тень, его окружали липы и яблони, а малина была столь высоченной, что я бродил в ней, как по лесу, собирая огромные, еле держащиеся ягоды.
Неподалёку от дома был выезд в поле с поворотом и дорожной ямой, где в дожди застревали машины. Заслышав натужный вой, я бежал туда со всех ног, в то время как со стороны деревни нёсся Васька, мой уличный товарищ и ровесник, коротко стриженый и белобрысый с переливом. У него было крепкое лицо с большим подбородком, с белёсым пушком по загару, а разрез серых глаз глубокий и узкий.
Грязь мне нравилась. Я даже звал её «грязька». «Бускует, смори, бускует!» – орал Васька, и мы бежали с такой радостью на лицах, что водитель, усадивший машину, косился на нас почти с ненавистью, а, бывало, прицикивал матюжком. Подбегали, словно яма была нашей собственностью, вроде ловушки, которую мы ставили и с чистой совестью проверяем. Обычно шофёр долго и враскачку газовал, машина с воем елозила то взад, то вперёд. Кто-нибудь стоял рядом, крича: «Давай-давай!», шофёр то вылезал, то влезал, подкладывал доски, которые измочаливало до щетины, и в конце концов машина выезжала, а мы разочарованно и осоловело расходились по домам.
Сдружил нас случай.
Мы играли на дальнем, высоком и сухом конце улицы, когда перед нами остановился газик с брезентовым верхом. В нём сидел в очочках дяденька агрономского вида. «Ребят, проеду на Выселки?» – махнул он в сторону нашего своротка. «Да, да! Проедете! Там отлично!» – вдруг заорали мы, не сговариваясь, – настолько опьянил нас внезапный фарт. Возможно, если б один из нас открыл рот на секунду раньше, второй бы, глядишь, и не подхватил, но нас подвёл резонанс. Дядечка сказал: «Спасибо, ребятки!» и потарахтел к своротку.
Когда мы подбежали, он, открыв дверцу, сидел в увязшем до подножки газике. Мы подбежали, как ни в чём не бывало: «Что, застряли?». Дяденьку я хорошо запомнил. Некоторым очки придают учёность, культурность, словом, некоторую беспомощность, которая в лесных и полевых условиях только усиливается. На лицах же, огрубелых от ветра и солнца, очки сидят особо. Толстые, затёртые, будто в подгорелой оправе, они придают лицу запредельную и даже грозную простецкость.
Дяденька нам не сказал ничего. Чем больше он молчал и смотрел мимо нас, тем рьянее мы пытались помогать: какие-то палки тащили подкладывали, кряхтели, лезли на глаза. Пытались буквально нанизаться на его взгляд. Даже кричали: «Газик он мочный!». Но он нас не видел. Ругнулся бы он или сплюнул, и то легче бы стало. Нет… Нагазовавшись, он сидел в кабине, пока не приехал трактор. А нас настолько подавило случившееся, что мы ещё долго ходили вместе по улице, словно порознь справиться с уроком были не в силах.
КАЛЕНДУЛА
Васька был великим романтиком, помешанный на любовном. Именно от него я впервые услышал песню:
А ну-ка, батька, запрягай-ка
Лошадочку косматую.
А я сяду и поеду
Цыганочку сосватую.
А тятька лошадь запрягает,
А мамка вожжы подаёт,
А папка мамку поцалует,
А мамка козырём пойдёт.
Слово «косматую-у-у-у» он тянул вверх особенно страстно и поводя головой. Мне страшно нравился мотив этой загадочной песни, её забубённость и тоска, и я спросил у бабушки, что значит «сосватую». Бабушка ответила что-то раздражённое, вроде, «вырастешь – узнаешь».
Ваську отличали крайняя лиричность и ранняя завороженность женственностью. Последняя сочеталась со сквернословием, а тема была единственной: женщина и её нежные части. Клоп делился сокровенным нараспев, мечтательным полушёпотом, рассказывая историю, как он с красивейшей «девкой» пошёл гулять и на пути оказался стог сена. Лирику иногда сменяли анекдоты, где действующими лицами также были некоторые человечьи запчасти. Те самые, о которых я в Солнечногорске с доверием поведал Ирочке.
Я Васькин восторг не разделял, но слушал. Подмывало справиться у бабушки, насколько правда всё то, о чём докладывал Васёк, но что-то останавливало. Однажды я не удержался и спросил, что означает одно средней тяжести словечко, украденное из прежнего алфавита и безобразно испошленное. Бабушка перевела его на детский язык, и стало стыдно – от обречённости в её голосе, оттого что объяснила, вместе того, чтобы отругать. Скучно зазвучал матюжок, обезоруженный бабушкиной честностью.
При своей грубоватости, всех: «выбей нос», «не дохай», «шут с ним» и «наплевать» бабушка до боли чуралась похабства.
Про скверные слова говорила, что они от татар. Слова эти были для неё преступлением так же, как и способность врать. Но честность стояла превыше, поэтому, когда потребовался перевод ругательства – перевела покорно и скорбно, словно похоронила изначально светлую, но уже изгвазданную страничку нашей с ней жизни.
«У Мишки заболело горло – перекупался. Заставила полоскать календулой. Вечером спросил, что значит слово … . Я пришла в ужас, но виду не показала. Сказала, что значения не знаю, но что это ужасно скверное слово – уверена. Теперь, не дай Бог, спросит кого-нибудь из ребят более сведущих – и найдут объяснение. Главный ужас в том, что этот глагол – основной во всей «уличной премудрости». Подумала: ещё слово существительное как-то можно объяснить. Едва подумала – он и спросил. Объяснила. Потом читали «Молитву» Лермонтова. Сказала, что, если ругнулся, а потом читаешь стихи – частички грязи остаются на языке и пачкают слово. Спросил: «А если календулой прополоскать?»».
ЧЁРНЫЙ БЫК
Просёлочная дорога, опушка, и обязательно сырая лесная глыбь с высокими редкими травами и каким-нибудь мясистым и бледным цветком. Под полутёмным кровом флейтово низко и странно поёт таинственно-неизвестная птица, вступая редко и отрешённо…
Полевая дорога. Пышная и нежная пыль, прибитая после дождя. Корка мокрая, копнёшь – там сухая и тёплая глубь. Лужи, как какао с молоком и бледной небесной добавкой.
К пыли я относился хорошо, бабушка же её терпеть не могла. «Пылищща» состояла у неё в одном проклятом списке с микробами. Были у бабушки и другие страхи: коровы, гуси и змеи. Коров, казавшихся ей бодучими, обходила. Стадо надвигалось неотвратимо – гудким сопением, молочно-навозным чадом, смесью жаркого воздуха и паутов, колюче врезающихся в лоб. Бабушкино лицо и так напряжённо усталое, особенно подбиралось, подсыхало. «Смотри, вон та рыжая – нехорошая», – прищурясь, говорила бабушка на масластую коровёнку с разно торчащими рогами. Один, точёный, с будто опалённым остриём, грозно целил вперёд. За стадом шёл пастух Андрей, ссохшийся и запёкшийся от солнца, похожий одновременно и на старика и на подростка. Был он в чём-то выгоревшем до лиловой серости, и в кепке. С плеча свисал и волочился длиннющий кнут, сходя в дорогу постепенно и словно сливаясь с ней. Раскатно и в нос Андрей взревает: «Но пошла-а-а-а-а!», а бабушка, повеселев, рассказывает сказку про Быка:
«– Для чего ты, старичок, нож точишь?
– Да старуха велела тебя зарезать…
– Не режь меня, лучше засмоли мне спину».
И я представляю, как быка смолят, как лодку, чтоб не сгнил, и удивляюсь, почему ему не больно – смола-то горячая…
Боялась бабушка и гусей, когда начинали шипеть и, наступая, тянуть шеи, будто под что-то подныривая. В гусиных шипении и шеях бабушке виделось змеиное. Я хорошо знал бабушкино прищуренное выражение и быстрый обходной шаг худыми ногами в коротких резиновых сапогах.
С дороги в чащу она сходила осторожно: боялась гадюк, хотя тех, кто их убивал, осуждала. Страхи эти и на меня пытались перейти, но я постепенно управился, хотя, чтобы взять в руки змею, и теперь сделаю усилие.
Дела тех дней шли самым неспешным чередом. Так, выдвинулся из ряда событий деревенский бык, пропоровший бок пастуху Андрею.
То, что жертвой стал именно пастух, было особенным святотатством. Помню, как бык этот прошёл мимо нашего дома, коротко и под нос роняя низкий, негромкий и леденящий рыко-хрип. Так кряхтит натужно пожилой мужик, получив удар сыгравшей доской или коряча груз.
Дом наш стоял на краю, а внизу лежало, как вытканное, поле с копнами. По нему и нёсся бык спустя несколько минут. Чёрный, с пыльным отливом, он поддел копёшку, и сено разлетелось веерно и пыльно. И радостно до озноба было, что бык далеко в поле, а ты за забором, а вот уже и за дверью. А потом перешло дело в грозу, да так естественно, будто оглушительный и грозный гром был продолжением этого буйного бычары, а веерный взрыв сена – предвестником предгрозового порыва ветра, пронёсшегося по полю. Поле казалось огромным и далёким, но этот веер сена я видел отчётливо, настолько странна детская оптика: несмотря на удалённость копёшки, она была будто рядом, словно пространство гуляло, удаляя и приближая предметы по мере моей привороженности ими.
Грома я боялся, как и вообще громких звуков, и выходило, что сама молния не так заботила, как этот чугунный, сотрясающий небо раскат. Бабушка начала считать секунды меж молнией и громом, как вдруг оглушительный и одиночный удар с ясным треском шарахнул точно над нами. Затрепетали молнии, будто нежданная бабочка-защитница зависла над нашим домом, в то время, как грозный кто-то в блестящей робе, шипя электродом, расшивал небесную арматуру. А бабушка всё считала секунды и всё указывала на увеличение разрыва, мол, видишь, проходит гроза. А в небе гигантскую мебель продолжали ворочать, в то время, как с поля дождевая стена шла белёсым войском, и поглотила, зашелестела, загрохотала по крыше обвально, и ливень упрятал нас от быка, молний и грохота.
Потом так же умолкло, рассеянно отдробив по кровле, и я выскочил и увидел синеющую боковину неба, воронки от капель на дороге, и вспухший, в ребристую ёлочку, ручей, бегущий по колее. Главную силу он набрал именно по окончанию ливня, и было что-то великолепное в том, что чем дальше буря, тем сильнее взбухает поток. Грохотнул гром, уже далёкий, будто всё продолжающий на меня ворчать, требовать какой-то душевной дани и, казалось, чем дальше небосклон, тем круче скат и тем податливей рухались ядра грома – как булыганы с самосвального кузова.
Отмоклым ясным голосом запела кукушка. И по молоко меня послали с бидончиком в дом за оврагом, к тёте Варе. Молоко забрал, но скользь стояла такая, что я проехался и шмякнулся в сверкучую грязь-жижу… И бидончик грохнул, крышка отлетела, молоко разлилось и смешалось с карим следовым месивом. Упал я боком, вонзившись пятерней в жирную толщу, в шёлковую кашу, в которой непременно острый обломыш кирпича найдёт, и врежется в руку. До сих пор помню смесь грязи с молоком, дрызглый холод сандалий, и как ремешки растягиваются, когда сандаль засосёт. И грязь на штанишках, и на голых ногах, и мокрость там, где пропитало одежду и та липнет.
Я брёл к дому по зелёному гребню меж двух колей, внимательно глядя под ноги, чтоб опять не свалиться. Вдруг буря вернулась: гулко и на голоса зашумело впереди, будто в мехах и пазухах пространства очнулся отставший ветрило. Я поднял голову: навстречу шёл чёрный бык. С губы свисала тягучая слюнина. В лучах солнца со шкуры летуче парила влага.
Из боковой калитки выскочила бабушка в телогрейке с хворостиной и предельно сощуренными глазами. Закидывая кругово́ худые ноги в коротких сапогах, она побежала быку наперерез. Я вжался в забор, и бык, не меняя шага, прошёл мимо, добавив к утробному сопенью низкий и хриплый рык, относящийся уже к бабушке, которая стояла меж мной и быком и шевелила губами.
Мы вернулись на наше крыльцо, откуда виднелось поле с копнами, освещёнными вечерним солнцем. В эту минуту деревянно-раскатно досы́пался гром в огромный ларь за́ полем, и бабушка, придя в своё восхищённо-эпическое состояние и дрогнув голосом, сказала, что это Илья-Пророк на телеге прогромыхал по каменно-крепким облакам. И ещё что-то такое старинное и уходящее в громовую даль веков, что и меня самого потянуло туда могуче и ясно, и я дрызглыми ремешками сандалек ощутил эту спасительную глубь, и показалось – чем крепче врасту стопами в отчую древность, тем легче мне будет выглянуть, свеситься в окошко нового дня. И не выпасть.




 Михаил ТАРКОВСКИЙ
Михаил ТАРКОВСКИЙ 


Очень выразительно! И не растянуто, в точку. Любовался грозой, громом, будто сам там побывал. Очень красочно и неизбито. Рад хорошему слову и духу, Михаил! Поздравляю! Дмитрий Жуков.
ВЫСОКИЙ ШТИЛЬ! БАХТИН.
Гениальная, эпически высокая концовка "Чёрного быка"!