Владимир ПРОСКУРЯКОВ
ЧЁРНАЯ ШЕЛКОВИЦА
Рассказы
«ЧЕРЕМШИНА»
Давно это было – тридцать пять лет назад. Ещё жив был и даже не проявлял никаких признаков агонии Советский Союз. А почтенное учебное заведение в Москве, где я имел честь тогда учиться, именовалось Академией МВД СССР. Оно было единственным на всей «одной шестой части суши», это уже после развала СССР только провинциальные техникумы поленились назвать себя академиями…
Наша «альма матер» учила не только разноязычных граждан СССР. На иностранном «спецфакультете» учились вьетнамцы и афганцы, болгары и монголы, и ещё бог знает кто – иностранные «менты» ходили и в национальной форме, и в нашей, но со своими знаками различия. В общем, это был разноплеменной сброд, среди которого особо экзотично выглядели вьетнамцы. Эти были обыкновенными лавочниками, которые возможность учиться в СССР использовали для организации своего домашнего бизнеса. В Москве они скупали всё «железо», которое пользовалось спросом в тогдашнем Вьетнаме – чайники и сковородки, утюги и кастрюли… Надо было видеть огромные контейнеры у входа в общежитие Академии, по которым, как мухи, ползали вьетнамские офицеры и чёрной краской рисовали свои домашние адреса! Но непосредственно с русскими (советскими) слушателями вместе их не учили. Зато у нас были свои «иностранцы».
Азиаты (казахи, узбеки и другие), как и ребята с Кавказа, не доставляли никаких проблем. И то сказать – кто может организовать настоящий шашлык или плов, не русский же Ваня? Но у нас были украинцы…
Ещё на сборах, при поступлении в Академию, я сдружился с хорошим парнем из Припяти, который спал в нашей казарме на соседней со мной койке. У нас на двоих была одна тумбочка. Неохотно он рассказывал о только что случившейся катастрофе на Чернобыльской АЭС и о своей службе, а по утрам старался незаметно сгрести с подушки целые пряди своих тёмных волос, которые покидали его голову жутким образом… Жаль его, он так и не поступил, его забраковала повторно проведённая медкомиссия!
Но были и другие… В нашей группе из 22 человек учился Михаил Кошарский из Винницы, высокий худощавый капитан с удлинённым, немного «лошадиным» лицом. Его назначили «секретчиком», в обязанность которого входило обеспечение занятий группы материалами с грифом секретности. Он сидел за ближайшим к выходу из аудитории столом и сразу же по окончании занятия вставал и объявлял:
– Подождите выходить, сдайте тетради!
Вся группа безропотно сдавала секретные спецтетради и терпеливо ждала, пока секретчик их пересчитает. Убедившись, что в пачке ровно 22 тетради, Мишка разрешал группе выйти. Так повторялось ежедневно по несколько раз, в зависимости от количества занятий по расписанию. Но как только заканчивалось последнее занятие, Мишка, вместо привычного «Подождите, сдайте тетради!», нагло выдавал: «Почекайте, здаты зо́шиты!». С окончанием занятий он переходил на «ридну мову» и ни с кем из нас не говорил по-русски вплоть до начала занятий следующего дня. И это несмотря на то, что в общежитии Академии он жил в одной комнате с русскими парнями!
Кроме него, в нашей группе учились ещё двое парней из Украины (из Днепропетровска и Ворошиловграда, ныне Луганска), которые ничем не отличались от русских, за исключением мягкого южнорусского говора. Собственно, они и по духу были русскими, если не принимать во внимание их «территориальную» принадлежность.
Как повелось испокон веку в офицерской среде, каждую новую звёздочку на погоны и у нас было принято обмывать коллективно и отнюдь не газировкой… По такому священному поводу мы собирались у нас в общежитии, и всякий раз в разгар торжества мне приходилось брать в руки баян, привезённый с собой на два года в Москву так, «на всякий случай». Однажды меня даже слегка пожурил наш начальник курса полковник Минчук – добрейшей души дядька, живший в доме напротив общежития Академии:
– Вы там поаккуратнее празднуйте, вас на целый квартал слышно!
Не заклеймив себя позорной слабостью признанья, я попытался возразить:
– Товарищ полковник, так пол-общежития гуляло вчера, приказ министра большой был, скольким звания объявили?
В ответ Минчук ехидненько прищурился:
– А баян чей был?
И надо же было случиться, что именно в это время, в Москве, у Мишки подошёл срок очередного звания – майора милиции! Естественно, ему прошлось «проставляться» и самому выпить целый стакан водки с замоченной в ней звёздочкой. Да и говорить в этот вечер в комнате общежития ему пришлось по-русски. Постепенно дошло дело и до баяна… Прослушав несколько песен, новоиспечённый майор бросил-таки реплику, мол, украинские песни лучше русских. Недолго думая, я вслух с ним согласился:
– Давай, Миша, сегодня специально для тебя – украинскую!
И я заиграл и запел давно знакомую мне «Черемшину»:
Знов зозули голос чути в лиси,
Ластивки гниздечко звили в стриси…
Мишка удивлённо взглянул на меня и подхватил:
…А вивчар жене отару плаем,
Тьохнув писню соловей за гаем…
Оказалось, что он неплохо интонирует, не искажает мелодию. Вся группа немедленно подхватила:
Всюди буйно квитне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина…
А кто-то по-озорному, по-мужицки перефразировал окончание припева:
Вивчара в садочку,
В тихому куточку,
Жме дивчина, жме…
Я начал второй куплет:
Йшла вона в садок повз осокори,
Задивилась на високи гори…
Кошарский неуверенно пропел первую фразу и умолк… Было ясно, что он не знает слов. В полном одиночестве, издевательски глядя на него, я допел на «мове» до конца все четыре куплета песни.
Ребята гоготали долго, будучи разгорячёнными спиртным, не особо ограничивая себя в комментариях к происшедшему. Украинскому «патриоту» досталось, от чего он просто вскочил и ушёл сначала в свою комнату, а затем и вовсе из общежития, переодевшись в цивильную одежду…
Я вспомнил этот эпизод сегодня, глядя по ТВ, как «братья славяне» добивают из гаубиц и «градов» на Донбассе всё, что ещё осталось неразрушенным, как сидят хохляцкие пацаны в рядок побитыми щенками, глядя на вооружённых шахтёров и гадая, останутся ли в живых.
Где ты сейчас, бывший майор (или полковник?) Кошарский? Стар ты воевать, ведь нам обоим по семьдесят. Помнишь ли, как с русскими мужиками пел русские и украинские песни? Или скрипишь зубами от злости из-за своей калитки на «клятых москалей»? Так беги – куда подальше, в Карпаты либо ховайся у себя, в Виннице, там ещё с прошлой войны бункера «Вервольф» остались, ты же сам рассказывал. А может, ты так же, как и я, в ужасе от всего происходящего в твоей стране? Так мы оба тому виной – прозевали, когда это всё только-только начиналось… Надо было ухо держать востро – а мы пели «Черемшину»!
ЧЁРНАЯ ШЕЛКОВИЦА
Старенький «виллис», подняв на пересохшей глинистой дороге клубы пыли, остановился в середине села возле высокой избы с красным флагом на коньке. Из машины, тяжело переваливаясь, поднялась на крыльцо приземистая фигура в сапогах, портупее и форменной синей фуражке.
– Каким ветром в нашу глухомань? – поднялся навстречу из-за дощатого стола председатель сельсовета – седой не по возрасту, прихрамывающий мужчина лет пятидесяти. – Какие заботы пригнали сюда начальника районной милиции?
– Привет, Леонид Игнатьевич! Кабы не проблемы, так неужели бы я к тебе собрался по этакой жаре? – гость снял фуражку, вытер платком пот с запылённого раскрасневшегося лица.
– А дело у меня к тебе, как сказал бы товарищ Ленин, архиважное…
Председатель сельсовета сразу посерьёзнел, опустился на стул, глядя в глаза присевшему напротив милиционеру.
– Ты слышал что-либо, Леонид Игнатьевич, о татарах-переселенцах? Ну, о предателях крымских, которых товарищ Сталин выдворил из краёв благодатных в места не столь отдалённые?
Председатель нерешительно уточнил:
– Это не из ихнего ли племени люди у нас где-то на Унже да Ветлуге лес валят?
– Верно, их там бараки вначале для себя заставили построить. Так вот, партия решила, что оставленные ими в Крыму дома пустовать не должны. И землю в Крыму кто-то возделывать должен, хлеб растить, сады, виноградники. Бросить всё – не по-советски это… На татарах свет клином не сошёлся, наш народ и Крым поднимет, но ведь там война прошлась…
– Что-то не пойму пока я – о чём это вы? – озабоченно наморщил лоб председатель.
– Хорошо, скажу прямо: пришла разнарядка на переселение наших людей в Крым. Жильё там есть, скарб домашний – тоже. Из твоего сельсовета – восемь семей…
– Это как? – глаза у «сельской власти» удивлённо округлились, а брови полезли на лоб. – А если не захотят?
– На то мы с тобой и власть, чтобы захотели! А ты как думал – у нас только добровольцы воюют?
– Ну, тогда тут с толком надо подбирать, да чтоб было чем припугнуть, чтобы не артачились. А я вот думаю, Василий Степаныч, что Крыму-то, наверное, всё равно, кого мы туда отправим. Оставим себе, кто здесь нужнее…
– Это дело твоё, Леонид Игнатьевич. Подбирай сам, но чтоб восемь семей в назначенный день… Да, ещё забыл предупредить – желательно переселять семьи, родственные между собой. Взаимовыручки у них на новом месте больше будет.
– Понятно, – согласно кивнул головой председатель, – а сколько вообще-то у меня времени на разгон?
– Пять дней! Но если хоть одна живая душа об этом узнает раньше сроку… – гость грозно сверкнул глазами, поднялся со стула, надел фуражку и вышел за дверь.
Председатель сельсовета поднял трубку телефона.
– Мне контору, – попросил он ответившую телефонистку, а ещё через несколько секунд: – Викторовна, ты бы зашла ко мне, дело срочное!
Не прошло и десяти минут, как в сельсовете появилась председатель колхоза Ольга Викторовна, высокая худощавая молодуха лет тридцати с обветренным скуластым лицом. Она поправила завязанную на затылке косынку и присела к столу.
– Что случилось, Леонид Игнатьевич?
– Только что уехал от меня начальник милиции, да так озадачил, Викторовна, – не знаю, как тебе и сказать…
– Да не томи ты, Игнатьич, говори!
– Надо нам с тобой, Викторовна, подобрать восемь семей из наших для переселения их в Крым, откуда Сталин татар выселил. Народу там теперь после войны совсем не густо, работать на земле некому. Дома там пустые, со всем добром… наших дожидаются.
– Вряд ли – со всем добром, – иронично усмехнулась председатель колхоза, – поди уж, растащили всё!
– Откуда мне знать? За что купил, за то и продаю… Да, Викторовна, надо подбирать семьи родственников, указание такое!
– Ещё не легче! Я-то думала, от пьяниц избавимся… А тут родственников!
Ольга Викторовна задумалась:
– У нас таких только две фамилии: Богатовы и Сидоровы. У Богатовых – пять семей, три брата и две сестры замужем. У Сидоровых – два брата да сестра семейная. И меж собой Богатовы с Сидоровыми мирно живут, не слышала я, чтобы ссорились. Жалко только, Леонид Игнатьевич, оба семейства работящие!
– А вот на это мы с тобой и упор сделаем, мол, партия и советская власть в Крым лучшие свои кадры направляет, мол, вам это честь особая…
– Честь честью, только не клюнут на эту лесть наши мужики, тут другой подход нужен.
– Верно говоришь, Викторовна! Крючок на каждого хороший нужен – да такой, чтоб не сорвались. Вот и думай, голова… Утром жду с предложениями!
Наутро, распределив колхозникам задания на день, председатель колхоза явилась в сельсовет.
– Есть кое-что, Леонид Игнатьевич, – она достала из сумки скрученную в трубку потрёпанную тетрадь. – У двух братьев Богатовых и у обоих Сидоровых – по прогулу по причине престольного праздника. Я, конечно, прикрыла, они обещали сверхурочно отработать.
– Так… – оживлённо встрепенулся председатель сельсовета, – прекрасно! По указу сорокового года это на статью тянет… Ещё?
– Я помыслила ночью, Игнатьич, что никакие прогулы и не потребуются нам, если сумеем старшего Богатова сломать, Петра. Он у них у всех – за отца родного, его все слушают. Но на него у меня ничего нет…
– Ну и пусть, зато на братьев его есть! Вызывай его ко мне назавтра с утра, и сама приходи, будем говорить. А после обеда пусть один из Сидоровых явится, которого найдёшь.
Как и ожидало сельское начальство, Пётр Артемьевич Богатов переезжать в Крым категорически отказался. Серьёзный обстоятельный мужик с крепкими жилистыми руками даже встал со стула, давая понять, что обсуждать такую чушь он не намерен. Но у Леонида Игнатьевича было преимущество – он, в отличие от Богатова, к разговору был готов со всеми доводами и аргументами. Поняв, что добром вопрос не решить, председатель сельсовета не счёл нужным церемониться.
– Ты присядь, Пётр Артемьевич, присядь, чего вскочил? Или ты считаешь, что советская власть неправильно поступает, направляя тебя на такой ответственный участок?
Богатов молчал, справедливо полагая, что здесь даже одно неосторожное слово может ему навредить.
А председатель продолжал:
– Напрасно ты так к советской власти, напрасно… Она у нас очень даже справедливая и гуманная. Вот взять, к примеру: оба твоих братца, Павел и Евгений, после престольного на работу не вышли. Прогулы у них, значит. А по указу сорокового года за прогул – что? Правильно, все знают – статья! Ольга Викторовна, добрая душа, не доложила, меры не приняла… Ну, за это с неё Родина отдельно спросит. А семьи братьев твоих, скорее всего, тебе одному кормить придётся. Сумеешь, сил хватит? Впрочем, можем и договориться. И власть советская оценит ваш патриотический порыв уехать поднимать народное хозяйство в разрушенном войной Крыме…
Желваки на скулах Богатова заиграли, он даже застонал, как от внезапной зубной боли:
– Умеете вы, волки, зубами за глотку…
Председатель пропустил крамольную реплику мимо ушей и холодно продолжил:
– Едете все, семьями – и братья, и сёстры. Все – Богатовы. Для вас там всё приготовлено – и жильё, и по хозяйству – что нужно. Я никого из вас больше уговаривать не стану, сам со своими обговоришь.
Богатов встал:
– Когда?
– Ещё не скоро, собраться успеете, я предупрежу.
Когда за Богатовым закрылась дверь, Ольга Викторовна, до этого безучастно молчавшая, не выдержала:
– Почему, Игнатьич, ты не сказал ему, что у них всего три дня?
– Ты что, хочешь, чтобы они поросят и курей порезали? Чтобы добро своё, которое с собой не увезти, по дешёвке пораспродали? Ещё не хватало, чтобы избы пожгли!
То ли «сарафанное радио» по селу быстро новости разносит, то ли случайно свела судьба сразу же после визита в сельсовет Петра Богатова с Афанасием Сидоровым, но уговаривать и стращать последнего председателю сельсовета не пришлось. Афанасий обречённо вздохнул и согласился ехать в Крым. Это позволило Леониду Игнатьевичу позвонить в район и доложить о готовности отправить «добровольцев» согласно разнарядке.
– Не забудьте взять у них заявления о согласии на переезд! – предупредил Василий Степанович. – Машины за ними я пришлю, позвоню отдельно.
А поздно вечером в окно избы Петра Богатова постучали. Выглянул в окно из-за занавески сам Пётр, вышел в потёмки. Перед ним стояла председатель колхоза.
– Ты прости меня, Пётр Артемьевич, не устояла я, да и вас отстоять не смогла. Единственное, что ещё могу для вас сделать, так это предупредить: у вас не больше трёх дней.
– Вот за это спасибо тебе, Оля, огромное! И не бойся, откуда узнал – я даже своим не скажу.
На следующую ночь на селе прервались жизни четырёх поросят и изрядной стаи кур…
– Откуда пронюхали, сволочи? – гадал председатель сельсовета, подозрительно поглядывая на Ольгу.
– А у тебя окна не открыты ли были, когда вы тут с начальником милиции болтали?
– Мишка, а чего мамка у нас такая зарёванная? – шёпотом спросила пятилетняя Настёнка Богатова своего старшего брата, укладываясь вечером спать под лёгкое лоскутное одеяло.
– Чего, чего? – ворчливо передразнил её Мишка. – Уезжать нам отсюда придётся, вот чего! Бросим всё – дом, хозяйство, друзей и поедем… неведомо куда, в Крым.
– Крым – это где?
– Это на юге.
– Так там же тепло? Там и яблоки, и груши?
– Да, и виноград тоже.
– А виноград – это что?
– Это ягоды такие, на кустах растут…
– А лес там есть?
– Нет там лесов никаких! И грибов… тоже нет! Только море есть. Спи, егоза…
А через три дня в село приехали из района две полуторки, с которыми прибыл и участковый Гришин. Машины переезжали от одной избы к другой… Под женский вой молчаливые мужики носили и забрасывали в кузова узлы и мешки, сажали наверх, на мягкую рухлядь, детей. Бабы с плачем прощались с соседками:
– Ты, Матрёнушка, картошку-то нашу, как поспеет, выкопай, лишней не будет, вон у тебя ртов-то сколько!
– Спасибочки, Любаша, дай вам бог… А я тебе на дорожку котомочку собрала! Уж прости, что немного…
Пётр Богатов отвёл в сторонку председателя сельсовета:
– Избы, Игнатьич, сбереги! Вернёмся мы ещё, попомни…
Прежде чем последним забраться в кузов, он поклонился сельчанам:
– Не поминайте лихом, земляки, простите за всё, если что…
Богатовы в одну машину не уместились, кузов второй поделили с Сидоровыми. Клубы пыли быстро скрыли село.
На железнодорожной станции, куда машины приехали уже под вечер, было пустынно. На перроне не было ни души, но на задних, запасных путях стояло два обшарпанных пассажирских вагона, вокруг которых творилась невообразимая толчея: груды вещей, женщины, детский плач, мужские голоса – и оцепление из вооружённых людей в военной форме.
Автомашины задами подъехали туда же. Участковый вышел из кабины:
– Выгружайся, приехали!
К нему подошёл какой-то чин в такой же синей фуражке, стал проверять списки.
Пётр Богатов с высоты кузова огляделся: уезжающих было много, но знакомых он не увидел.
Раздалась зычная команда «По вагонам!» – и толпа ринулась к вагонам, в каждом из которых было открыто по единственной двери, облепила, повисла на поручнях…
Пётр деловито скомандовал братьям:
– Прорывайтесь налегке в вагон, занимайте купе и открывайте окно. Вещи через окно погрузим.
– А если не откроется?
– Выбивайте, к чёртовой матери, всё равно в этом вагоне половины стёкол нет!
Бить стёкла не пришлось. Братья проявили находчивость: Павел подсадил более проворного Евгения, и тот влез в окно без стекла. Братья махом перекидали весь скарб в вагон, после чего, опасаясь давки, через окно передали в вагон детей. Уже не обременённые ни вещами, ни детьми, переселенцы через двери забрались в вагон. Давка и здесь была неимоверная. Люди пробирались по узкому проходу, заваленному мешками и узлами, кто с руганью, кто с плачем, расталкивая друг друга. Мешки спешно закидывали на верхние, багажные полки. Впопыхах брошенные, они падали вниз, на головы отъезжающих, после чего их снова куда-то совали, уминали, стискивали, чтобы выкроить хоть какой-то клочок жизненного пространства. Односельчане разместились в двух соседних купе, если можно было назвать таковыми отсеки, разделенные перегородками.
Постепенно суета в вагоне улеглась, запахло едким табачным дымом, послышался недовольный женский голос:
– Поимейте совесть, мужики, и без того дышать нечем! Дети же здесь…
Пассажиры, в чьих купе окна не открывались, потянулись на перекуры в тамбур.
Спустя полчаса где-то совсем рядом просвистел, запыхтел паровоз, вагоны дёрнулись, послышался металлический лязг. Конвоиры, неизменно, как истуканы, стоявшие с обеих сторон вдоль вагонов, вдруг «поплыли» назад – состав тронулся. Последний женский плач – как прощание с родиной…
– Неужели Москву увидим? – задал вопрос матери Мишка Богатов, поглядывая в окно, за которым пролетали редкие вонючие клубы дыма. Та, думая о своём, не ответила. Зато Настёнка, услышав, затормошила брата:
– Ты, Мишка, разбуди меня, чтобы не проспать Москву!
Но увидеть Москву переселенцам не удалось. Ночью ещё не раз состав останавливался, но не у перронов и вокзалов, а на отдалённых запасных путях. К нему цепляли ещё вагоны, и ещё… Пару раз за дорогу к вагонам подкатывали подводы с бочками, и тогда за водой с чайниками и бидонами из состава выбиралось едва ли не всё его мужское население. Естественно, состав неизменно окружался вооруженной охраной…
Дни тянулись бесконечно долго. Как-то незаметно для переселенцев за окнами вагонов исчезли леса, сменившись пустынными холмистыми равнинами, потом завиднелись «пирамиды» терриконов.
На пятый день утром состав, как и прежде, загнали в какой-то тупик, и совсем неожиданно для пассажиров паровоз, отцепившись от вагонов, прощально просвистел и, облегчённо пыхтя, укатил. Но выгрузка пассажиров пошла уже совсем по другому сценарию.
Чин в синей фуражке, зайдя в вагон, выкрикивал фамилии. Услышав отклик, он командовал:
– На выход!
Начиналась возня, суматоха, спешное выбрасывание на улицу вещей. Вышедшие вместе со своим скарбом грузились в указанные им автомашины и уезжали… Дошла очередь и до Богатовых с Сидоровыми, но вместе с ними в две полуторки погрузили ещё пару семей, как выяснилось – земляков, но из другого района.
Полтора часа неспешной езды по разбитым, изуродованным войной дорогам – и машины остановились у какого-то невзрачного села. Ни одной настоящей, русской рубленой избы, лишь приземистые белёсые домики с маленькими оконцами и такими же низенькими сплошными оградами, с виду – каменными, как и дома. Но деревьев по селу было много, порой они сплошь, как огромным зонтом, прикрывали черепичные крыши.
Приехавший вместе с переселенцами в кабине одной из машин толстячок в светлой тенниске и белой летней кепке вышел и представился:
– Я – парторг колхоза «Светлый путь». Вы теперь будете работать в нашем колхозе и жить в этом селе, в Петровском. Село пустое, выбирайте себе дома и перетаскивайтесь. А пока освободите машины. После обеда я приеду, определимся, как вам быть дальше.
Переселенцы разгрузили машины, оставили пару женщин возле вещей и двинулись, озираясь, по пустынной улочке, заросшей низенькой, грубой, как проволока, колючей травой. Жуткое впечатление производили «неживые», чужеродные жилища с их гробовой тишиной, нарушаемой лишь птичьим щебетом. Кажется, если бы чья-то собака грозно гавкнула на пришельцев, то и этот признак жизни мог порадовать…
Далеко новосёлы не пошли, дома особо не отличались один от другого. Все вместе зашли в один двор, огляделись: дом, крашенный белым, такой же небольшой сарайчик напротив во дворе, колодец посреди двора, тропка в заброшенный, заросший сад. Да ещё огромное дерево раскинулось над всем двором, затеняя жильё от нещадного южного солнца. Пётр Богатов деловито ковырнул попавшей на глаза железякой белую стену дома, вгляделся в сделанную им щербину и сплюнул:
– Думал – камень, а это саман!
– Что-что? – переспросил один из братьев.
– Саман, кирпич из соломы с глиной и навозом!
– Так что, теперь в хатах из говна жить будем? – раздражённо бросила реплику одна из женщин.
– Похоже, других вариантов не будет, – задумчиво ответил Богатов. – Я остаюсь здесь. Дальше и смотреть не пойду, чтобы потом не судили, мол, старший брат себе лучшее выбрал. Мишка, беги, зови сюда мать и Настёнку!
Мишка со всех ног помчался к дороге. Не прошло и получаса, как старший Богатов вместе с женой и сыном перетащили свой немудрёный скарб к новому жилью… Всё здесь было чужим и непривычным – и полы земляные, глинобитные, и чудная печь без дверцы, с открытым очагом, и маленькие глухие оконца без рам. Сарайчик во дворе, как оказалось, был летней кухней, где можно было сготовить на небольшой печурке и пообедать всей семьёй. Порадовал колодец – вода была вполне пригодной. Хорошо, что захватили с собой ведро, пригодилось…
Мишка, разглядев над головой в листве продолговатые ягоды чёрного цвета, похожие на малину, вскарабкался на дерево, чтобы сорвать, но мать запретила:
– Не смей есть, пока не узнаем, что это!
После обеда, как и обещал, появился парторг, собрал вместе всех переселенцев во дворе у Петра, отобрал паспорта для прописки и объявил:
– Вам завтрашний день – на обустройство, послезавтра в восемь утра на работу.
Он указал на дорогу, где утром оставили приезжих машины:
– Там, за дорогой, наша центральная усадьба. Два километра всего. Придёте в контору, определимся, кому чем заниматься.
Не сдержала своего любопытства Настёнка:
– Дяденька, а это что? Виноград? – спросила она, показывая пальцем на чёрные, во множестве висящие над головой ягодки.
– Шелковица, – улыбнулся строгий парторг, – можешь есть, сколько хочешь!
– А море где? – не унималась Настёнка.
– До моря здесь восемь километров, во-о-он туда, – и парторг указал на запад.
Когда двор опустел, Пётр подошёл к жене и, глядя в упор в её переполненные слезами глаза, тихо сказал:
– Ну что, мать, давай разбирать вещи. Надо обустраиваться, надо жить…
* * *
Я побывал у них, моих родственников, спустя четверть века после описанных событий. За прошедшие годы их стало здесь – на полсела. Но тогда я и не пытался отгадать эту загадку: откуда их здесь столько?
А семья Петра Богатова так и жила в татарской саманной мазанке под старой шелковицей, которая усыпала весь двор перезревшими чёрными ягодами. Под ногами они раздавливались, оставляя на плотной голой земле тёмные вишнёвые пятна.
СВЕЧА ДЛЯ «САМОВАРА»
1.
Рабочий день складывался, как и всегда, суматошно. Утром Николай забрал у колхозной конторы в кузов своей старенькой полуторки целую ораву девок и баб, вооружённых деревянными граблями и вилами.
Выгрузив на покосах шумную женскую бригаду, он спешно вернулся в село, где у конторы его уже ожидал Игнатьич – председатель колхоза, чтобы ехать в район.
Вернувшись к обеду в село, Николай довёз председателя до дома и, прикинув, что у него есть пара свободных часов, поехал к себе. Дома никого не было, значит, жена была на ферме. Настасье вот-вот рожать, поэтому Николай каждый день ждал, что она ему «сыграет тревогу». Но жена упрямо ходила на работу вместе с другими доярками.
– Слышь, Настюха, а если тебя там, на ферме, прихватит? – спросил пару дней назад Николай.
– Ничего, я там не одна, – успокоила его Настасья, – главное, ты надолго не уезжай.
– Я себе не хозяин, – проворчал Николай.
«А и в самом деле, неизвестно, что лучше – с людьми на ферме или дома в пустой избе!» – подумалось парню.
Не успел Николай вытянуть ухватом из печи чугунок со щами, как услышал на улице истошный вопль: «Помогите!». Он бросил ухват – и к дверям, к калитке. У соседней избы, оставив на траве сумку и оглядывая пустынную днём улицу, звала неведомо кого на помощь Светка-почтарка, длинноногая худющая девка, всю войну пугавшая сельчан своим появлением. Её ждали – её и боялись. И обмирало сердце у каждой страдалицы, пока не разглядит, что достаёт из своей страшной сумки почтарка – треугольник или конверт. Слава Богу, если треугольник – значит, жив! А в конвертах присылали похоронки…
– Чего орёшь? – окликнул Николай Светку.
– Коля, миленький, помогай, Прасковье Петровне худо! – бросилась к нему почтарка. – Я ей письмо принесла.
«Уж чем можно было так Прасковью напугать? – мелькнуло в голове Николая. – Похоронку на Серёгу она давно получила…».
Соседка, тётка Прасковья, мать его погибшего друга Сергея, полулежала на траве возле крылечка своей избы, опершись плечом на старенькую скамейку. Она прижимала к сердцу зажатый в кулаке лист бумаги. На лавке лежал раскрытый конверт.
– Петровна, что с тобой? – присел возле неё Николай.
Та приоткрыла глаза.
– Коленька, Коленька! Серёжка-то мой… – голос её захлебнулся слезами, – жив Серёжка!
Обалдевший от такого известия Николай сел рядом с ней на траву:
– Как? Где?!
Прасковья молча протянула ему сжатое в кулаке письмо. Николай осторожно принял его, расправил и прочёл…
Письмо Прасковье отписал директор какого-то дома-интерната с Вологодчины, в котором содержались инвалиды войны. Он сообщил, что у них находится инвалид войны Пахомов Сергей Никонович, 15.03.23 г.р., с ампутацией всех конечностей. Возвращаться домой калека не желает, от переписки с родными отказывается…
В один день Николай с Сергеем ушли на фронт. Плачущая Прасковья тогда украдкой попросила его: «Уж ты сбереги Серёжку-то…». Да и кого ещё просить за сына – разве что Боженьку, да вот друга! Но разбросала военная судьба друзей в разные стороны, по лихим фронтовым дорогам.
С войны он пришёл почти целёхонький. Ну, зацепила его навылет какая-то случайная пуля в Восточной Пруссии. Побродил по медсанбату с забинтованной левой рукой пару недель – и опять в строй. Вернулся после Победы в пустой дом, мать ещё зимой соседи похоронили. Простыла, слегла, да так и не поднялась. Отец ещё до войны где-то сгинул, за ним тогда ночью приехали…
Колхоз помог ему поправить дом, а вскорости и хозяйку в него бывший солдат привёл. Да и как иначе – в опустевшем селе женихов-то наперечёт! И курсы шоферов Николай в районе окончил, колхозу водители нужны.
…Почтарка давно ушла, а Николай с Прасковьей всё сидели на покосившейся от времени скамейке. Николай молчал, а Прасковья, захлёбываясь счастливыми слезами, приговаривала ему:
– Коленька, жив ведь он, жив! А мне тогда зря похоронку прислали! Не верила ведь я ей, не верила… Коленька, я упрошу председателя, съездим за ним, привезём домой! Как же он без меня? И как же я теперь без него?!
Николай молчал, не в силах что-либо сказать. Ещё по медсанбату он помнил, что может сейчас представлять собой его друг – без рук и ног. Острый на язык русский народ безжалостно и цинично приклеил таким калекам ярлык «самовар» – есть голова, есть тело, больше ничего… только краник снизу…
Он даже собрался с духом, чтобы осторожно предложить Прасковье хорошенько обдумать это спешное решение – привезти сына домой. Но взглянул в наполненные слезами, но такие радостные глаза – и понял, что лучше промолчать. Любой его намёк – и эти же глаза матери сверкнут на него ненавистью.
Николай поднялся:
– Пойду к председателю.
Прасковья тяжело начала подниматься со скамейки:
– Я с тобой!
– Сиди, Петровна, я Игнатьича сюда приведу.
Председатель был уже в конторе. Ошарашенный новостью, которую ему принёс Николай, он выгнал всех из конторы, достал из тумбочки бутылку водки, плеснул в два стакана. Выпили, «закусили» табачным дымом.
– Может, Игнатьич, ты её как-то вразумишь, она тебя послушает, – попросил Николай, – у неё самой сердце – никакое, ей ли калеку содержать!
– Слушай, Колюха, а давай, я спишусь с этим директором, пусть он повторно ей письмо отправит, мол, ошибочка вышла, не ваш это сынок у нас содержится, однофамилец просто!
Николай отрицательно помотал головой:
– Нет, Игнатьич, не пройдёт такой номер. Не поверит Прасковья, всё равно поедет, чтобы лично проверить – не её ли там сын.
– Ну, что ж, пошли к Петровне, – председатель взялся за фуражку.
Как и ожидалось, Прасковья слышать не захотела даже об отсрочке поездки.
– Пешком уйду! – решительно заявила она Николаю. – Если ты со мной не поедешь – сама Серёженьку донесу.
Николай ещё в душе надеялся отложить поездку за Сергеем по причине предстоящих со дня на день родов жены, но теперь почувствовал всю никчемность такой отговорки. У председателя также не хватило духу вставить палки в колёса – не отпустить водителя на несколько дней. Это же какой скандал будет – не позволить привезти домой инвалида, героя войны!
Выехали вдвоём через два дня. И в переполненном душном вагоне поезда, и на палубе старенького речного пароходика, неспешно ползущего вверх по течению красивой северной реки, Прасковья делилась своей радостью со всеми попутными пассажирами:
– Сына нашла, живого! А ведь похоронку на него получала!
Люди участливо поздравляли, мол, теперь сыну, коли воскрес, ничто не страшно, сто лет жить будет. Ободрённая, обласканная мать светилась неподдельным счастьем. Николай молча молил Бога, чтобы не позволил его Настасье рожать в его отсутствие. Шоферов в колхозе, кроме него, не было, а на телеге трясти её до роддома восемнадцать вёрст…
Наконец, погожим тихим утром пароходик причалил к невысоким мосткам. Никакого селения тут не было, но за пологим солнечным косогором виднелся монастырь.
«Вам сюда!» – подсказали попутчики, и Николай с Прасковьей сошли на берег, предварительно разузнав, когда пароход пойдёт обратно.
2.
Монастырь был невелик и производил довольно опустошённый вид. Храм без креста, колокольня без колоколов, с зияющими проёмами, распахнутые ворота, заросшие буйной травой… Лишь тропа, ведущая внутрь, указывала, что где-то здесь существует жизнь. Под аркой ворот Прасковья перекрестилась и поправила платок на голове.
Вошли внутрь. Бросилось в глаза обилие дров, колотых и неколотых, тут и там валяющихся неряшливыми кучами, ещё не уложенных в поленницы. И верёвки, верёвки… с висящими для просушки простынями, полотенцами. Всё это бельё давно утратило белый цвет и превратилось в нечто грязно-серое.
Путников встретила упакованная в халат такого же цвета женщина небольшого роста и неопределённых лет, проводила к «начальству». Директор – представительный, одетый во френч «сталинского» покроя, очень оживился, узнав, что гости приехали не просто навестить «своего», но и намерены забрать его с собой. Он тут же распорядился определить приезжих на ночлег и отвести в трапезную, где кормился немногочисленный персонал интерната.
– Пароход будет только завтра! – предупредил директор.
– Мне бы Серёженьку скорее увидеть! – взмолилась Прасковья. Директор согласно кивнул санитарке, и та увела Прасковью, а Николай, не зная, как поделикатнее сформулировать свой вопрос, неловко спросил у директора:
– На сколько… его?
– Ноги – выше колен, руки – выше локтей, – ответил директор. – Сопровождающие говорили, что зимой после боя похоронная команда его, полуживого, вытащила. Конечности отморозил основательно, гангрена. Да он у нас не один такой – десятки их, всяких…
Николай представил себе жуткое зрелище и не решился попроситься в палату, утаив, что Сергей – его друг. Как будто угадав его состояние, директор спросил:
– А вы его знаете?
Николай согласно кивнул.
– Сегодня после завтрака у него прогулка, так что увидите, – пообещал директор.
Вдвоём вышли на двор, закурили. Николай снова огляделся:
– Мужичков-то, гляжу, у вас тут негусто!
– Мужичков хватает, но почти все – инвалиды, – усмехнулся директор.
– Мне до завтра здесь дурака валять тошно, дайте колун, хоть поработаю.
– Вот за это спасибо! – ответил директор.
– Извините, – замялся Николай, – я не знаю вашего имени-отчества…
– Алексей Иванович.
– Алексей Иванович, вы поговорите по-серьёзному с Серёгиной матерью, с Прасковьей Петровной. Одна она живёт, по дому да по хозяйству я да другие соседи помогают. А у неё сердце больное. Случится что с ней – куда Серёгу девать? Уж, может, ей здесь, при интернате остаться? Ухаживать бы помогала, как санитарка…
– Понимаю, – промолвил директор, – поговорю…
Николай обошёл обширный двор. Рядом с белым двухэтажным корпусом, возле высокой монастырской стены он увидел странную площадку, на которой была плотно вытоптана трава. Это выглядело необычно, если учесть, что всё подворье изрядно поросло, проросли травой даже кучи дров.
Николай нашёл на одной горке колотых поленьев колун, скинул одежду по пояс и принялся за дело.
Прошло около часа, когда он, уже изрядно устав и вспотев, уселся на чурбак, чтобы перекурить, и услышал мужские голоса. Николай обернулся. На площадке под стеной, пригнувшись к земле, суетились несколько санитарок в белом, да неподвижно сидела в траве Прасковья. Негромкие мужские голоса явно доносились оттуда, но никого поверх травы не было видно. Николай поднялся и только тогда увидел целый ряд лежащих на траве тёмно-синих мешков. Их было десятка полтора…
Не в силах оторвать взгляд от жуткой картины, Николай медленно приближался и расширившимися от ужаса глазами разглядывал лежащие в траве рядком «конверты», сшитые из грубых одеял – невообразимо короткие, чтобы вместить в себя человека. Но эти конверты вмещали… то, что осталось от здорового и сильного ещё совсем недавно мужика – туловище с обрубками конечностей. Самым страшным было видеть, что сверху этот мешок венчает самая обычная человеческая голова, которая говорит, смеётся, матерится, плачет…
Две санитарки, прикурив каждая по паре папирос, проворно сновали вдоль ряда, давая каждому по глубокой затяжке и переходя к следующей паре «самоваров».
Николай медленно приблизился к крайнему из «мешков», возле которого сидела Прасковья, и присел. Серёга поднял глаза, и они встретились взглядами.
– Колюха! – прошептал друг, и две крупные слезы скатились с уголков глаз к вискам. Николай осмелился, протянул руку и осторожно погладил его по голове. Он не знал, что в такой миг можно было сказать. Он даже не посмел бы выговорить «Здравствуй!», поскольку в такой ситуации желать человеку здравия было бы кощунственно.
У Прасковьи тихо текли слёзы. Молчание нарушил Серёга:
– А меня, Колюха, видишь…
– Вижу, Серёга, не говори ничего, – Николай с трудом проглотил ком, вдруг выросший в горле.
А рядом галдели и смеялись, радуясь тёплому солнышку, птичьему щебету и табачному дыму такие же изуродованные войной остатки людей – молодых парней и мужиков. Они подтрунивали над санитарками, беззлобно переругивались и, казалось, даже забыли, что не могут пошевелить ни рукой, ни ногой.
Разговор Алексея Ивановича с Прасковьей ни к чему не привёл, она отказалась остаться при интернате, твёрдо решив вернуть сына домой.
…Серёгу домой вёз, а точнее – нёс Николай, непривычно ощущая, насколько лёгким может стать взрослый человек. В вагоне Серёгу посадили на нижней полке в уголок к окну, прикрыли отсутствующие ноги дорожным одеялом. Рядом к нему прижалась Прасковья – и беглым взглядом даже не разглядеть, что едет не «целый» пассажир, а едва ли не его половина. Ещё до отъезда Николай договорился с Игнатьичем, что даст ему телеграмму для их встречи на вокзале. Председатель не подвёл, на станции их ждала колхозная подвода, набитая свежим сеном. Вороная кобылка, весело помахивая хвостом, скоро доставила Серёгу Пахомова домой после долгого отсутствия.
3.
Настасья, вопреки опасениям Николая, «дождалась», и он сам отвёз её со всеми предосторожностями в районный роддом. А уже на следующее утро Игнатьич с крыльца колхозной конторы провозгласил:
– А Николай-то наш – батькой стал! Сын у него, почти четыре кило!
Дружное бабье «ура» перекрыло речь председателя. А вечером Николай, уже слегка подогретый после коротких посиделок с мужиками, зашёл с бутылкой водки к Пахомовым. Собственно, он и так ежедневно забегал к Серёге, но тут был повод особый. Николай уговорил Прасковью принять глоточек за своего наследника, потом осторожно приподнял Серёгу и вылил ему в раскрытый рот, как птенцу, полновесную стопку водки. Глазом не моргнул друган, только выдохнул тяжко:
– А вот этого мне не видать…
Прасковья не выдержала, пряча слёзы, вышла из избы на двор, а Серёга, глядя в потолок, продолжил:
– Ты не представляешь, Колюха, что это за мука! Рук-ног нет, но остальное-то живо… Когда я ещё в строю был, завёл себе девчоночку-связисточку. Ух и ласковая была, как доведётся нам с ней ночку украсть… А потом, уже в интернате, дежурная санитарка ночью из жалости подсядет рядом, сунет под одеяло руку, помнёт, качнёт пару раз – и уж брызжешь, стонешь от наслаждения, а потом воешь до утра от тоски смертной, от беспомощности своей… Теперь ещё хуже – мамку-то не попросишь!
А однажды (сыну Николая, тоже – Серёжке, уже шесть месяцев исполнилось) Серёга вдруг совершенно серьёзно сказал другу, пристально глядя в глаза:
– Дай слово, что не вернёшь меня в богадельню, если с матерью что… Я не к тебе прошусь – я за матерью вслед хочу отправиться. Никому я на этом свете не нужен, всем обуза. Смысла в таком существовании нет. Помоги мне, если что…
– Ты с ума сошёл?! – ужаснулся Николай. – Чтобы я своими руками…
– А ты подушечкой меня прикрой, я и не трепыхнусь!
– И не проси, идиот!
Покурили, успокоились, но Сергей сосредоточенно и ровно продолжил:
– Запомни хорошо, Колюха, всё, что скажу. Когда это случится – нам с тобой неведомо, но помрёт моя мать. Ты сосед, ты, скорее всего, первым узнаешь. Или я покричу, люди услышат, ты услышишь… Пока бегают, звонят, обо мне решают, ты не мешкай. Неси сюда свечку, обвязывай ниткой, ставь на край стола, второй конец нитки – мне в зубы. Под стол бросай охапку соломы, зажигай свечу – и в контору, к людям, чтобы на тебя не подумали. А уж когда свечку со стола сдёрнуть – я сам решу. И ты гадом последним будешь, если не дашь мне такой свободы! Поклянись, что сделаешь!
Николай молча закурил ещё одну папиросу, потом долго держал её, уже догоревшую и угасшую, в пальцах, пока, наконец, не выдавил:
– Обещаю…
И помнил Николай об этой страшной клятве все два года, пока не сбылось… Стылым зимним утром, как рассвело, заметил он, что над избой Пахомовых дыма нет. Обычно Прасковья рано печь затапливала. С тревогой Николай зашёл в избу, окликнул Сергея. Тот уже не спал.
– Проверь, Коля, как там мать?
Николай зашёл за занавеску, прикоснулся к холодному лбу Прасковьи.
– Умерла у тебя мать, Серёга!
– Тогда вспомни, что обещал, да поскорее!
Николай ушёл к себе, вернулся с припасённой свечкой и катушкой ниток. Сходил на двор, нагрёб по углам охапку старого сена (давно уж у Пахомовых козы не было). Привязал нитку к свече, поставил на край стола, отмерил нитку, оторвал…
– Скорее давай! – Сергей сжал в зубах нитку, сквозь зубы процедил: – Зажигай свечку и иди к людям, чтоб тебя видели, да о том, что мать моя умерла – никому!
Николай в последний раз взглянул в суровое лицо друга:
– Прощай, и прости за всё!
В ответ услышал:
– Спасибо тебе, придёт время – свидимся!
Похоронили их вместе – Прасковью и Сергея Пахомовых, мать и сына. Оба тела были одинаково короткими, в пожаре конечности быстро сгорают…
ЭПИЛОГ
Когда-то, уже давно, на рубеже веков путешествовал я сплавом по одной тихой северной реке. Накатившая непогода вынудила меня искать пристанище в глухом монастыре, неведомо откуда появившемся из-за излучины реки. Впрочем, ещё не снятые с купола строительные леса свидетельствовали о том, что обитель жива.
На ночлег меня определили к одному старому монаху, который и поведал ночью эту историю. В моей памяти до сих пор звучат его слова:
«…Я всякий раз, когда зажигаю свечу, вспоминаю ту, перевязанную ниткой».
г.Кострома




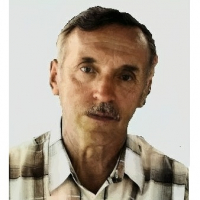
 Владимир ПРОСКУРЯКОВ
Владимир ПРОСКУРЯКОВ 


Владимир Михайлович, спасибо за рассказ. Сколько таких историй ещё не рассказанных и не услышанных...
На комментарий 31419
А я не заплёвываю колодец. Я вообще-то сталинист. Но, к сожалению, на местах тоже воротили немало, и скрытых врагов у Сталина хватало, саботировавших и дискредитировавших советскую власть, как, впрочем, и прогибавшихся выскочек, которые ради карьеры ломали дрова и судьбы. В итоге и раскулаченные невинно были, и расстрелянные, и сосланные. Всё было в классовой борьбе между русскими и антирусскими. Сестру моей бабушки раскулачили со всей семьёй, а было-то - большая зажиточная семья с десятью детьми. Но я не раздуваю ту беду до вселенских масштабов. И жути приставкинской никто не нагоняет. Автор рассказал историю своей родни. Разве не могло произойти подобное как один из перегибов, которые критиковал Иосиф Виссарионович? А вообще благодарю за патриотичную народную позицию. Признаю, что по глупости сформулировал неверно, и получилось ошибочное обобщение. Однако писать по соцзаказу или указке нельзя, иначе общество объестся одной темой.
НА КОММЕНТАРИЙ #31417
Олег Куимов, вы вроде бы взрослый человек, но не надо же такую степень "наивности" проявлять. Вскормленный, выученный советским временем вы (как и Проскуряков, впрочем) не заплёвывали бы колодец, из которого пили. Побольше бы о современных постсоветских "радостях" писали, а не копались в прошлом, к которому, слава Богу, циклично ещё придётся вернуться обновлённой России. При условии, что она усвоит урок уважительного отношения к Истории советского периода.
Благодарю автора за рассказы. Интересно. Не знал, что Крым заселялся так же насильно, как и выселялись татары. Олег Куимов.