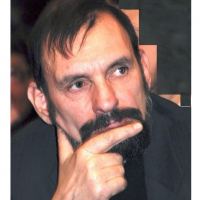
Михаил ТАРКОВСКИЙ. ХУТОР. Глава из книги «42-й. До востребования»
Михаил ТАРКОВСКИЙ
ХУТОР
Глава из книги «42-й. До востребования»
На Москве-реке в Игнатьеве мы жили два лета.
Долгожданную туда дорогу помню мазками. Ожиданье на Белорусском вокзале на платформе. Теплынь, солнышко и дорожный запах шпал. Круглая морда электрички, которая не стоит, не ждёт нас у перрона, а приходит – с какой-то Каланчёвки. Просторные вагоны с деревянными сиденьями на две стороны… Бабушка обязательно ищет «немоторный вагон, чтоб не рычало». И в самом вагоне тоже поиск – чтоб сидеть «по ходу».
Разлётный вой электрички, полоса несущегося травяного откоса с мазаниной одуванчиков. И вот станция Тучково, площадь и посадка в автобус в какое-то Кулюбякино. И болтанка, и наконец мост через Москву-реку и выход из автобуса. И название – Поречье... Освобождающее, вольное… И уезжающий на гору автобус. И тишина, словно ждущая, пока он скроется. И тогда обступает – огромная, дышащая, живая.
Грачиные гнёзда на липах, ветерок тёплым опахальцем. Предельная какая-то свежесть, острота всего, что вокруг. Грачи не каркают, а издают глубокий, объёмный и ликующий воркоток. Бабушка тащит два узла – «наперевес». Узлы из каких-то покрывал. Идём вдоль речки, вот и деревня – и полоса огорода под капусту и картошку меж рекой и домами. Только вспахали, и вывернутые пласты земли – выпуклы и металлически-лиловы. Из них блестящие скворцы тянут червей, переговариваются жирно и довольно.
И ощущение, что мы опоздали на что-то важное, на весенние события, свеже-студёные, живящие, и ты будто виноват, что не жил здесь всегда, не делил зимы-весны… И все повторяют, что «смыло лавы» – мостки через Москву-реку на столбах. Женщина в огороде распрямляется и сходу начинает разговаривать с бабушкой, маша рукой на реку. Мне кажется, что она говорит очень громко. У неё платок узлом назад, и платок съехал, и видна полоска лба, молочно белого по сравнению с лицом, нажаренным солнцем в какие-то первые жгучие дни, так что загар уже глубокий, закрепившийся. Я замечаю всё, что вокруг, но бабушку будто не вижу. Я просто при ней, а она рядом, как тёплое дерево.
Утро. Просыпаюсь в незнакомой комнате и вижу в окне яркий лучисто-жёлтый свет солнца. И осознаю, что никто меня не будил, а что я сам проснулся от полноты жизни.
Выхожу во двор.
Там дядя Паша Горчаков – наш хозяин, сухощавый, небольшого роста. Ходит без рубахи и в кепке: кисти в перчатках загара, такие же лицо, шея и под ней красно-коричневый клин на груди. Белое в синеву туловище со складкой под грудиной в районе поддыха, и под ней выступающий белый живот. На боку живота внизу гнутый с росчерком малиновый шрам – ударило вылетевшей доской на пилораме. Хромал – ранило на войне.
Когда мы приехали, дядя Паша как раз заканчивал стройку, забирал углы досками и красил тёмно-зелёной краской. Мне очень нравился цвет и как дядя Паша работает. Всё, что он делал, я почитал за эталон. В завершение он выпилил и наличники, и покрасил зелёным с белыми завитками. Сам сруб тоже был забран дощечкой в ёлочку и крашен той же зелёной краской.
Дядя Паша вытаскивает иголкой занозу – и мне диковинно, что он не ковыряет, а гладит плоско иголкой, задирает её, наклонную, и будто выманивает, а заноза вылезает и топорщится. Пахло от дяди Паши смесью опилок, какой-то заквасочной кислинки и пота.
Что-то мужики делали возле нашего дома во дворе, не то варили, не то раствор месили, и я при них вертелся, тоже что-то излаживал. Был Сева, молодой парень из города в белом свитере с воротом. Он настолько рьяно участвовал, что загваздал свитер и все его осаживали: «Сева, Сева! Ну что же ты… Эх… ё». Бывалый один мужичок меня привечал, и в работе между трудовым покряхтыванием нет-нет да и обращался ко мне или просто одобряюще подмигивал. Я не то напевал что-то, не то бормотал, и он спросил, что, мол, за бубнёж? С кем говорю? Я отвечал, что сам с собой, а он качал головой: будешь сам с собой разговаривать – «бэ-э-эстро… шарики за ролики зайдут».
Иду по двору. Тянет пружинистый ветерок, пахнет дымком и навозцем. Забор, воротца на улицу, на столбе скворцы в скворечнике. Через улицу луговина, поле и лес на пригорке. На луговине стреноженные кони – с путами на передних ногах. Срывают траву с громким и резким хрустом, и я не понимаю, чем они производят такой звук – как полотно рвут. Конь обирает траву перед собой тщательным полукругом, голова двигается то правее, то левее, и хруст гулко меняет тон, отдаляется, приближается. Время от времени то один, то другой конь отрывается от травы и, оглядевшись, перепрыгивает вперёд, высоко поднимая спутанные ноги. Этим движением он напоминает мне детских коников, их бодрое качание на полозьях, и большие живые лошади тоже кажутся частью детства, подтверждением запредельной сказочности происходящего.
Луговина перед домом. И на ней коровьи лепёшки с мухами настолько рыжими, что кажутся вечно подсвеченными солнцем. Сидят друг на друге, и я называю их «двухэтажными мухами», а взрослые смеются и глаза прячут. На лепёшке дождевая лужица – сбоку зеркальцем, а на просвет жёлтая.
Я зазёвываюсь на коней и влезаю сандалькой в лепёшку, и нутро лепёшки под корочкой оказывается ярким, жёлто-зелёным и остро-пахучим. Проскальзываю, промазываю дорожку по траве и чуть не падаю. Подошва противно-скользкая, никак не вытирается.
Запах свежего навоза особенно въедлив после дождя, когда ещё и комары повылезут на мокрые голые ноги. И один белёсо-рыжий, травяной, злючий, вопьётся в коленку, где поверх ссадины зеленеет смазанный след – елозил по траве на коленках.
Сегодня сухо и солнышко. Я смотрю на коников. Подходит быстрой походкой бабушка, берёт за руку: «Пойдём на Хутор».
Над деревней сосновый бугор и за ним поле. На бугор колеи в сухой траве. По ним мы и идём. Бабушка наклоняется, показывает: «Тимофеевка, лисохвост…». Травы она знает, и ей нравятся названия. Поднимаемся на сосновый бугор. Под ногами шишки. На жаре раскалённая палая хвоя пахнет сильно и терпко. В кронах всегда ровно и отстранённо шумит ветер. Бабушка останавливается: «Видишь, верхушек нет». На некоторых соснах они действительно грубо сбриты, оторваны. Бабушка говорит, что за рекой стояла наша батарея и била по немцам.
Идём дальше – то по опушке, то по полю. Вдоль дороги разорванные гильзы от снарядов, с передней части они расщеперены, изогнуты, как щупальца. Видимо, рядом рванул боекомплект или склад. Никто не берёт их, не тащит на память, и они лежат, как придорожные камни. В некоторых местах на опушке заросшие ямы от снарядов. Бабушка идёт быстро, и я отстаю, то у снаряда задержусь, то просто канючу.
За бугром поле поднималось к лесу, мы идем по опушке и подходим к хвойному месту – ёлки, сосны сбились как-то особенно семейно. Бабушка останавливается: «Хутор».
И тут сквозь слои завороженности, вечной тягуче-медовой обкладки, в которой я пребываю, до меня доходит: оказывается, бабушка здесь жила раньше, да ещё с детьми! И, выходит, домой приехала!
Во мне будто глыбы ворочаются, пятна времён, и я понимаю, что здесь среди леса когда-то давным-давно стоял дом Горчаковых. Тех самых дяди Паши и тёти Дуни, у которых мы сейчас живём, но только молодых. Почему они отсюда переехали – не понимаю, наверное, в Хутор попал снаряд. Почему бабушка жила у Горчаковых – не понимаю, но чувствую одно: что мы все родня, все связаны.
– Вот здесь крыльцо было. Нет, здесь. Там вот сарай. Сеновал. Витька сарай поджёг. Кланькин брат.
Кланька и Витька – горчаковские дети.
– Как поджёг?
– Так поджёг. Со спичками играл. Сарай сенной. Там сено было. Поджёг и в лес убежал со страху. Спрятался. А все думали, он там, в сарае.
– А он?
– А он в лесу. Прятался.
Мне всё не даёт покоя Витька.
– А потом?
– Потом пришёл.
– А сарай?
– Сарай сгорел.
– Его ругали?
Бабушка отворачивается…
Солнышко снижается, густеет, горит на соснах… Всё это неподъёмно… Война, бабушкины дети, мама – одна из них… И так далеко, сложно, но каким-то странным образом… оно уже моё. Рыжим закатным солнцем его в меня впекает. Постепенно, задумчиво.
На Хутор мы с бабушкой ходим постоянно. Место заросшее и почти ровное. Никаких почему-то развалин. По краю земляника. Под соснами кошачьи лапки, и мы там сидим с бабушкой. Она берёт книжки и читает мне в слух «Как муравьишка домой спешил». И нам особенно нравится, когда муравьишко кричит землемеру: «Стой, а то укушу». Когда на дороге я устаю, а бабушка уходит, я тоже так кричу – и бабушка смеётся.
Лет в двадцать я приехал на это место зимой, и у костра выпил – много… Снег, солнце, сухое сосновое пламя… Замёрзшая до индевелого просверка колбаса... Бабушки уже не было. От выпивки она всю жизнь оберегала меня, как от огня. Но думаю, на этот раз простила бы.
Остальное восстановил позже, хотя так и не узнал, кто познакомил бабушку с Горчаковыми и их хутором, где она с детьми три года жила летом до войны. В 1937-м году дом на Хуторе сельские власти перевезли в Игнатьево. В 1941 году в районе Игнатьева шли страшнейшие бои. Снаряд действительно был, но попал он не в Хутор, а в дом Горчаковых уже в Игнатьеве! Дом сгорел, и дядя Паша отстроил глиночурочную избёнку, где они зимогорили до стройки нового дома. Мы жили уже в новой избе, и дядя Паша при нас обшивал её тёсом.
Избёнка-глиночурочка меж тем была замечательна: стены сделаны из чурок-тонкомера и поленьев, положенных поперёк, и стены выглядели, как кладка из треугольников и кругляшей на глиняном поле. Вид был очень исконный и, думаю, дом был теплейший.
Помню, на пороге этой избёнки стоял радиоприёмник дяди Пашиной молодой родственницы, возможно той самой Клани, и на фоне глиняной стены с древними глазами-торцами вдруг взгорланило: «Эй моряк, ты слишком долго плавал…».
Никогда не чувствовал я так деревенского умиротворения, как в те годы. Естественное счастье просыпания. Постепенность распаляющегося зноя. Единство и моей, и окрестной услады…
В жару вдруг начнёт блажить корова – с переливом в октаву. Овечки, семеня, перебегут крепким и кудрявым облачком, блея на разные лады и твёрдо сыпля блестящим горошком. Снесшаяся курица вдруг заорёт, или петух найдёт съестное и закудахчет по-особому дробно, на одной гулкой ноте, сзывая куриц, и они побегут сломя голову. Особенно смешно бегут большие рыжие – размашисто орудуя ляжками и наклонив вперёд головы.
Кину кусочек, чтоб курица видела. Она заметила и осторожно приближается, вот сделала шаг и сыграла взад-вперёд шеей, ещё шаг – и ещё раз туда-сюда сходила любопытная голова, будто приводком соединенная с ногами. Курица на меня косится и поворачивает голову в несколько острых отрывистых движений. Я вижу светло-карий глаз, который, смаргивая нижним веком, на долю секунды оказывается затянутым и получается дурашливое дохлое выражение. А потом она клюёт хлеб и гребешок трясётся, свешиваясь набок. А на проводе поёт ласточка-касатка, и бабушка говорит, что она в конце песни завязывает узелок. И надо всем этим вдали – безмятежно рокочет трактор.
К вечеру стихает шум, медленно и тягуче проходит по деревне стадо, обдавая молочно-навозным чадом и слепнёвым гудом, звонко брякает ботало на рыжей комолой корове… и снова тихо. Изредка ребятня где-то закричит. Телёнок замычит совсем по-детски. А потом слышно только, как дядя Паша отбивает косу в огороде. Чуть темнеет, стелется туманчик по луговине, и кричит вдали коростель. Будто по огромной и пересохшей расчёске дерут гвоздём.
Бабушка уже сварила на керосинке кашу, покормила меня, и я лежу на своей кровати, а она читает вслух «Как муравьишка домой спешил». Насекомых я вообще люблю, и мне хочется превратиться в кузнечика и сидеть в травах, чтобы тимофеевка и лисохвост были высокими, как сосны. Читает бабушка и «Жизнь насекомых» Фабра с фотографиями. Ещё была книга «В стране дремучих трав», на которую я питал большие надежды, но мне пятилетнему или шестилетнему она показалась заумной, тем более и героя звали Думчев.
Читали мы «Руслана и Людмилу», «Сказку о Царе Салтане». И, конечно, повторялось бесконечно «У Лукоморья дуб зелёный», картины которого, не вмещаясь в детский кругозор, только сильнее поражали: как служит бурый волк царевне? Почему бурый? И почему колдун несёт богатыря? И почему так страшно, что именно перед народом?
Ещё была какая-то бабушкина своя ненаписанная сказка, начало которой она любила повторять – очень задумчиво, грустно и мечтательно: «Далеко-далеко за речкой».
Бабушка никогда не называла в одно слово «Москва́река», «пойдём на Москварику». Нет. Всегда неспешно – Москва-река́.
На Москве-реке вместо смытых лав уже стоят высокие свеже-жёлтые деревянные мостки. С них мы с бабушкой смотрим на воду. Течение несильное, глубина небольшая, желтоватое дно с крошкой известняка, длинные и волнистые водоросли, про которые бабушка говорит, что это волосы русалок. И сама улыбается почти восхищённо…
В оконце меж русалочьих прядей стоят рыбки, поигрывая тельцами. Для меня открытие, что тельца такие узкие, ножевые и что рыбки держат их вертикально, не заваливаясь на бочок.
Бабушка речная душа. На море она была один раз в детстве и никогда не вспоминала. Не любила пляжный зажар, курортный дух, жила среднерусскими речками и детства без них не представляла.
Бабушка хорошо плавала. Обычно детвора и женщины гребли по-собачьи, а бабушка имела свой стиль – что-то среднее между кролем и сажёнками. Сажёнки (её слово) не раз показывала, очень размашисто и как-то тягуче закидывая руку через верх и кладя набок голову, поворачивая, словно собираясь обернуться, но каждый раз передумывая. Волосы у неё были русые и длинные, для купанья она их укручивала вокруг головы, закалывала шпильками. Однажды замочила волосы и очень огорчилась. Став вдруг неожиданно серьёзной, с потусторонней почти решимостью пресекла мои липучие приставания, мол, бабушка, что случилось, волосы намокли, ну что тут такого?
Купалась бабушка в беззащитно розовом купальнике, набранном из мелких мешочков. Очень белая, стройная, в воду шла, напряжённо щурясь и водя по поверхности руками.
Любила утро и вечер: тогда мы и купались, и мылись, и стирались. Хорошо помню стылое намыленное состояние, и беспомощную виноватую сутулость, с какой намыленный входит в воду. И как плохо мылится мыло, и хлопья уносит теченьем. А бабушка говорит, что вода «жёсткая», и я не понимаю, как жидкое может быть жёстким.
Тихими и задумчивыми были речные вечера. Боковое рыжее солнце с сеевом мелких лучиков, с золотыми иглами совсем подле глаз. Комары, подлетающие неверным шатучим табунком. Я их шлёпаю, а бабушка говорит: «Ты одного убьёшь, а десять тебя укусят». – «Ну я же его убью!». «Убьёшь. А тебя десять укусят». И я не понимаю, почему, если меня укусят аж десять, то шлёпать нельзя.
Редкая грусть подступала ко мне меня в такие вечера. Она будто не во мне рождалась, а в окрестности. Завязывалась и выводилась в особенно сырых, тихих местах, и только, когда уляжется ветер, проливалась, стелилась туманам, серебряной росой садясь на подстывшую детскую душу.
Бабушка в то лето как заворожённая бродила со мной по Хутору и его окрестностям. Там был тёмный и высокий ельник с запахом прели и грибницы. По нему шла дорога: две лиловые колеи, кое-где присыпанные сухими иголками. Неестественно зелёная и мясистая трава недвижно стояла промеж ними и по обочинам. Было одно растение, похожее на глухую крапиву – с дурманно-тошнотворными белыми цветами – пахучими, небольшими, не то башмачками, не то колокольцами. И с неряшливым переходом зелени от лепестков к цветам.
Однажды мы с бабушкой шли по этой дороге, и в тёмном её конце необыкновенно грустно кричала не то птица, не то зверюга. И мне представлялся имеющий ко мне таинственное и мучительное отношение лисёнок, будто выражающий нечто глубинно детское, извечную незрелость детёныша, бессилье пред огромным миром и звериную тоску потеряться.
Ходили мы и в дальние лесные края, к дубовым полянам, где собирали грибы и где на одной, самой большой, была когда-то деревня и звалась Селиба. Мы с бабушкой любили это название и придумали целое повествование о лесном городище, заселённым говорящим зверьём. Начинала его бабушка словами: «И во-о-от…». До поворота к полянам мы шли по линии электропередач, с которой сыпался механический мёртвый стрёкот, очень нелюбимый бабушкой. Потом сворачивали направо.
И во-о-о-от… на обратном пути, выйдя на линию электропередач, бабушка закрутилась и двинулась не в ту сторону. Я настоял, что не туда, показал правильно, и мы вышли к нашему полю.
По пути бабушка решила забрать левее зайти на Хутор – словно настроить размагниченный свой компас… Шли обратно по дороге через поле напротив Хутора, и я всё канючил продолжить рассказ про селибских зверей, среди которых главным и излюбленным героем был медведина. И снова началось – и во-о-от… И вот звери что-то делают страшно интересное, а медведина причём завёл кинокамеру с летописными целями – и всё снимает. А у бабушки старинные представления о кинокамерах – что надо ручку крутить. И ей самой так нравится это мясорубочное крутение, что она ещё несколько раз эту картину показывает-пересказывает: «И снимает. И снимает…».
А потом бабушка всем рассказывала, как я её вывел. И что чувствую направление.
Что верно, то верно.
Не торопясь, подхожу к крапиве и, поглядывая на бабушку, намереваюсь за неё взяться. Бабушка предупреждает: «Нельзя крапиву, она кусается». Я гляжу нагло бабушке в глаза и, раскрывая пятерню, нацеливаюсь на крапиву. Бабушка снова: «Нельзя. Она кусается.» Я торжествующе смотрю на бабушку, и медленно-медленно сгребаю-комкаю шершавый зубчатый лист. По мере комканья глаза мои расширяются, краснеют, но, так же глядя на бабушку, я выдерживаю фасон и не расхныкиваюсь – по словам бабушки, исключительно из вредности и упрямства.
Или вдруг начинаю нудить, въедаться, цепляться к словам, пытать на оттенки. Бабушка по-утреннему бодрая, добродушная спрашивает миролюбиво:
– Мишастый, а ты помнишь, как ночью петухи пели?
– А как они пели?
– Нет, ну ты помнишь, что они пели?
– А что они пели?
Точно знаю, что мало нас драли в детстве. Отец рассказывал для острастки, как его дед, дед Макар, за столом «брал деревянную ложку» и этой ложкой давал «по́ лбу», и что детей будто бы драли по субботам розгами, независимо от того, набедокурили они или нет. Я понимал профилактическую нотку этих баек и резон всыпать оптом и впрок, потому что детвора обязательно что-нибудь нашкодила втиху́ю. Никто мне ложкой в лоб не бил, и не драл по субботам ни ремнём, ни розгами. Бабушка, правда, иногда брала «хворостину» (её выражение), но применяла изредка, а более пугала. Или «всыпала полотенцем».
Однажды у меня сильно разболелся живот. Поднялся жар, замутило-зазнобило, и понесла меня бабушка на закорках в посёлок Техникум в больницу, по качающимся мосткам.
В слове «закорки» я ощущал родное жужелицыно «прыгай ко мне на закорки», и Машенькино сиденье на медвежьей спине в корзине. Качаются мостки, несёт меня бабушка мимо русалочьих волос, мимо стоящих стойком рыбок, ещё недавно таких ценных, а теперь бессильно далёких, отчего ещё тошнее. Наконец мы сходим на берег, и меня начинает так мутить, что я кричу бабушке: «Стой!». Но она идёт, и я снова канючу: «Бабушка, стой!». И тогда я кричу наше любимое: «Стой, а то укушу!» и бабушка умиляется и спускает меня на землю. Меня тошнит… Я лежу на травке… Потом снова закорки и наконец больница и полумрак кабинетика, холодная в клеёнке койка, и маленькая пожилая докторша щупает «животик» и говорит, что аппендицита нет.
Обратно я иду сам. Переходим мостик. На берегу подходим к нашему знакомому, Григорию Максимычу, высокому пожилому дяденьке в очках и шляпе. Он рыбачит спиннингом на тюколку (кораблик) и у него сидят в бидоне пойманные голавли. Я хочу подержать рыбу в руке и через бабушку спрашиваю разрешения. Мне разрешают. Григорий Максимыч вынимает из бидона голавлика, даёт мне и наказывает, чтоб обязательно в воде держал.
Я держу. Поначалу голавлик жалко вялый, и я ослабляю хватку. Он будто клонится на сторону, но вдруг мгновенно встаёт вертикально и, вильнув хвостиком, уносится, и меня снова поражает вертикальный постав рыбьего тельца.
И опять никто меня не ругает.
И снова вечер, кровать, и солнечное утро. На этой самой кровати я дважды испугался треска: снаружи закоротило контакт на гусаке у стены, и с резчайшим стрёкотом посыпались снопами бело-синие искры. И другой раз: лежал после обеда, и вдруг громкий и сухой треск раздался, и тут же сыто перешёл в рокоток – наш хозяин дядя Паша завёл пускачом трактор-колёсник.
Кровать однажды куда-то унесли, и я остался без логова. Бабушка, не моргнув глазом, сшила матрасовку, а потом взяла серп, и мы пошли за заборы в низинку жать траву. Бабушка жала осоку, рассказывала о старинной силе серпа и объясняла, как не порезаться осокой. Покос собрала в мешок, высушила возле дома и набила им матрас. Потом мы сходили в лес и притащили сухих ёлок на жерди, из которых она сделала козлы. Пилила ножовкой, коленом сквозь платье придавив жердину, колотила молотком гвоздь… Он трудно шёл в насквозь сучкастую ёлку. Натянула на козлы мешковину, прошила мешочной иглой. Постелила простынь, положила подушку и сказала: «Вот тебе кровать!».
Сладко спал я в этой холстинной зыбке в запахе сена! Под охраной нешкурёной ёлки, сухой осоки… И бабушка лежала рядом на своей раскладушке и наверняка в полутьме смотрела на меня, спящего в козлах. А когда я заснул, вышла под звёзды.
А меня держали в ладонях высохшие ёлки, пеньковая холстина, трава, а я покачивался во сне, ворочался, и поскрипывали не то козлы, не то мостки, по которым бабушка несла меня на закорках в больницу. Ярче светили зрелые летние звёзды, отражаясь в воде. Сонным табунком подошли к берегу рыбки. И голавлик, которого я выпустил, тоже стоял средь русалочьих прядок.
Бабушка оставалась бабушкой, а дружбы мои с ребятишками шли своим чередом. Неспешно и природно перетекали мы из одного куска деревни в другой. То дружу с Бельскими ребятишками в нижнем конце. Там навесик на песке, и мы сыпем песок в бутылки, а самый старший мальчишка отлично разбирается, где из-под водки бутылка, где из-под «солнцедара». Ребячьих имён я не запомнил, высыпались они из памяти во время беготни. Но был там точно Андрей, потому что старший Бельский кричал:
Андрей-воробей,
Не гоняй голубей,
Не клюй песок,
Не марай носок.
Я не совсем понимал про какой носок и думал, что про тот, что на ноге.
Ещё ходил в верхний конец деревни, где перед оврагом царил свой пятачок жизни, и жило семейство, видимо, тоже дачники-съёмщики и их мальчишка, худенький, но со своим строем, книжным, лирически-манерным. Печально он поведал, что у него был друг, и повёл к ямке, где лежала птичка. Какая-то будто ненастоящая, похожая на механическую, жёлтая, с синими и красными пятнышками.
Приехала к ним целая компания родственников, и мой знакомый сказал, что надо подойти к его старшему брату и протянуть руку: «Михаил». «Как это?» – «А так. Дашь руку: Михаил. Понял?». Я сказал: «Понял» и всё выполнил, но на старшего брата это впечатления не произвело. Бабушка сказала, что самому руку совать невежливо, и надо дождаться, пока старший тебе сам протянет, если вообще захочет с тобой здороваться.
Во главе со старшим братом и одной заводилистой и некрасивой девчонкой собралась компанийка, и меня позвали на травку играть в «Акулину красный нос». Дали карты. Я завороженно взял их и продул игру, и всё радостно закричали, что я Акулина красный нос.
Наискосок от нашего дома метров двести-триста жила Галька. Выходила с большущим куском чёрного хлеба, обильно намазанного земляничным вареньем, и несла его аккуратно, выдерживая плоскость и не сводя с неё глаз. С Галькой мы то ходим не разлей вода, сидим на лесах соседнего сруба и разговариваем. То вовсе не видимся.
Галька жила в небольшой избёнке с отцом и матерью. Потащился, помню, за Галькой, а она домой и в сенки. Видно, сама в себе замлелась, задумалась или наоборот – решила: пусть за мной побегает. Ныряет в избу и захлопывает дверь перед самым моим носом. Дверь утеплённая на зиму, пристоявшаяся в косяках до плотнейшей притирки.
Дверь почти закрывается, когда я сую в неё большой палец. Кровища, ноготь с ошмётком, в красном сочащемся окладе… Бегу домой, реву, трясётся челюсть и рёв тоже трясётся, отзываясь на ямку или кочку. Несу палец, по ноготь заполненный болью, боюсь стрясти, пролить, как будто, если сберегу до бабушки, то не так будет обидно. Бабушка выходит на вой и идёт навстречу… И говорит про солдат на войне, как им раненным больно и как они не плачут, а Суворов учит: «Трудно в ученье легко в бою». Бинтует и рассказывает, как ходил через Альпы Суворов, и от тёплого этого имени становится легче и мне кажется, что Суворов бабушкин дед.
Потом душная настала жара, и будто маревом накрыло нас общедеревенской новостью: Галькин отец напился пьяный и застрелил мать «лосиной пулей». Лосиная эта пуля, конечно, была бабьим измышлением, но особенный смысл имела и будто брала на себя часть вины, несмотря на звучащее в ней лесное, таинственно-охотничье. Отца Гальки я не знал и представлял огромным звероподобным мужиком. Очень хорошо помню чад беды, который, как дым лесного пожара, замутил и приглушил солнце, прижёг листву, и как жаром охватило голову, и болел я вместе с округой.
Совсем недавно узнал, что девочку звали вовсе не Галька. И что, когда мама моя шла к нам с автобуса, маленький мужичок лежал со связанными руками в канаве рядом с их домишком. Были в гостях, он напился и напрасно приревновал жену. Побежал домой за ружьем, и застрелил. Его посадили в тюрьму, а девочку взяли родственники.
Дым помаленьку стянуло. И наша ребячья жизнь двинулась дальше: ребята постарше нарыли за огородами в заросших окопах потемневшие пулемётные ленты, в зелень заплесневевшие гильзы, и мы ещё долго жили раскопками, и бабушка еле дозывалась меня на ужин.
Бабушка любила керосинки и отвергала керогазы, как коварно-взрывоопасные. Керосинки были двух сортов: попроще – двухфитильные, высокие, и подороже, сытого вида, кастрюлеобразные с тремя фитилями и тремя иллюминаторами.
У нас была простая.
Запах керосинного чада и подгоревшего молока. Крик: «Мари-Ванна, у вас керосинка коптит!». И в закопчённом оконце мечется чёрный язык. Что оконце из слюды, а слюда минерал, мне удивительно. Как камень превратился в мягкое стёклышко?
Вечер, ноет комар. Лежу с книжкой и смотрю картинки: синее море с чешуйчатой волной и барашками. Белая лебедь, изогнув шею, смотрит на злого коршуна, пронзённого стрелой…
Бабушка собирается варить кашу. Отщелкивает зажим, откидывает высокую двойную ногу, под которой две расселины с фитилями. Зажигает фитили. Загораются, чадя, две полосы, бабушка тушит спичку о воздух, закрывает керосинку и ставит кастрюльку – алюминиевую, с длинной ручкой и вмятиной.
Кроме манной и овсяной каши бабушка варила на керосинке толокно. И кипятила молоко, чтоб не прокисло. Молоко я пил и парное, и кипячёное, и любил пенки, хотя остальные дети их терпеть на могли.
Простокваша ещё была с розовым сметанным верхом, чуть шершавым и будто плесневелым. Бабушка снимала его в кружку. Взболтанную, ледово-кускастую простоквашу из зеленоватой банки мы пили в жару. Простоквашу бабушка откидывала в марлю и вешала на гвоздик над кастрюлькой. Сыворотка капала в кастрюлю, кулёчек покручивался и менялся тон капели. Вынутый из марли творог был в мелкую сетку и у верхушки со складками от марли.
Но любимая моя еда – щавелевый суп с разрезанным яйцом и сметаной. И жареные лисички с картошкой.
За столом бабушка рассказывала про генерала Тучкова. Дескать, его спросили, куда наклонять тарелку, когда доедаешь суп, а он отвечал: если хочешь облить себя, то на себя, а если соседа – то на соседа. И про генерала Горчакова тоже что-то говорила, и я был уверен, что и Тучков, и Горчаков связаны со станцией Тучково и с Горчаковыми, у которых мы живём. И что это не совпадение, а устройство жизни, и одобрял, как всё по-хозяйски подбочно сделано.
Едва не забыл: на керосинке бабушка варила земляничное варенье с пенкой, которую мазала мне на чёрный хлеб, и я бежал с ним по деревне, как Галька.
Керосин привозила керосинная лавка – зелёная машина с цистерной. Останавливалась рядом с нашим домом, и если вся деревня собиралась с бидончиками по керосин, то мне нужна была машина сама по себе. Да и не удивительно: «ГАЗ-53» тёмной армейской зелени, обвешенный шлангами, и запах: богатейшая смесь бензина и керосина. Во взваленной на спину цистерне, её наклоне назад, виделось что-то боевое, одушевлённое, и машина вздымалась надо мной как Конёк-горбунок.
Стою рядом с цистерной. Идёт какая-то неотвратимая возня, хлопочет со шлангом шофёр – невысокий, молодой, в чём-то чёрно-сером и серой же кепке. Я настолько верно и завороженно смотрю на машину, что он меня хватает, и, вздымая к небесам, сажает на цистерну лицом по ходу перед открытым люком, во мгле которого лилово мерцает керосин. Он суёт мне в руку пистолет со шлангом, который велит опустить в горючее. До сих пор не могу понять, почему я совал пистолет, который должен быть с другой стороны шланга. Не помню. Может, чтобы заполнить шланг, поменять концами и пустить керосин самотёком? Или я, даже просто глядя, умудрялся напутать?
Сижу на бочке и понимаю, что все на меня смотрят. Очень хорошо помню и шланг, и пистолет – алюминиевый, и его ствол, и ручку со спуском. Всё большое, объёмное, из мужицкой жизни, железной, бензинной. Отношусь я к этому восторженно-подчинительно. Всё происходящее сильнее, быстрее меня.
Водитель залезает в кабину и решительно, безнадёжно-обрубающе захлопывает дверь. От этой хлопающей двери я холодею. Закрывшись, водитель заводит двигатель, и тот громко и натужно начинает работать. Я во весь рот взвываю оттого, что через секунду машина рванёт и, промчавшись по нашей улице, разгонится на спуске, взлетит и «через леса, через моря» помчит меня перед народом, и я буду еле держаться за люк, и где-то далеко внизу будет удаляться наша улица, толпичка бабушек, и среди них моя Миванна…
Водитель выскочил и бросился меня снимать. А я, продолжая вопить и деревянно тянуть руки, с первой доли секунды понимаю, каким позором оборачивается эта спасительность, и что надо было выдержать, вытерпеть, выдюжить… Что неспроста так натужно зудел мотор, и что шофёр какой-то насос включал. И что я не только подвёл водителя, увидевшего во мне помощника и товарища, а прошляпил поступок.
Потихоньку кончалось лето. Ближе к осени обострялись дали и ещё сильнее манила дорога за Хутор на Томшино́, которое я считал Тамшиным. И это Тамшино с очарованным «там» звучало особенно таинственно и несбыточно. А даль потихоньку жухла и вспомнилось, что рано или поздно ехать в город, где тоже жизнь, и я начинаю канючить:
– Бабушка, когда мы поедем в Москву-у-у?
А бабушка говорит чуть грустно и певуче:
– Когда вот тот дальний лес пожелтеет…
И в том, что пожелтеть должен именно дальний лес, я вижу печаль и тайну. Не то даль имеет лучшую пропитку от осени, чем ближние берёзы, не то бабушка перевязана с этой далью тонкими и ноющими нитями, и не узнать, для меня оно сказано, или впрямь бабушку изъело тоской по тому, далёкому Хутору.
По утрам я выхожу из дома и смотрю, как пожелтел дальний лес, насколько пятнист переход из зелени в желтизну. Лес потихоньку берётся золотом, и всё резче контраст меж светящимися берёзами и тёмными соснами.
Мы наконец уезжаем, но если весеннюю дорогу в Игнатьево я помню прекрасно, то ни штришка не осталось в памяти от нашего возвращения… И уже идём по Щипку – вокруг бензинный чад, грузовые машины шумно набирают ход, и голуби взлетают из-под ног, хлопая крыльями и смыкая их над спинами. Первый день проходит, второй, и я снова не могу заснуть и плачу:
– Бабушка… Хочу в дере-е-е-е-вню…




 Михаил ТАРКОВСКИЙ
Михаил ТАРКОВСКИЙ 


Слово. Слово. И ещё раз слово! Завораживающее. Вот когда сюжет не играет главную роль. Само слово становится и сюжетом и главным действующим лицом. Наслаждение!
Замечательная проза.
Зрелый человек охватывает прошлое взглядом отрока. Взгляд природно ещё до конца не сфокусирован, но одновременно столь точен и подробен, словно детство было вчера. А иные подробности - на уровне и ниже созревших, ещё не скошенных трав, доступные именно детскому взгляду, любопытному, пытливому и цепкому. Всё это - черты настоящего письма, восходящего к классической прозе ХIХ века.
Проза Михаила Тарковского - от души к душе, способной услышать музыку и прикоснуться к тайне сказанного и несказАнного...